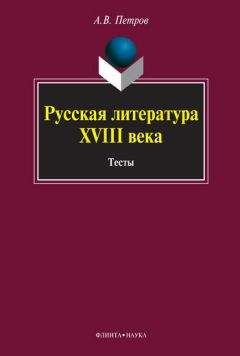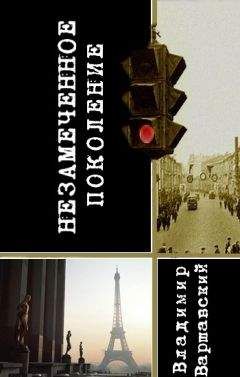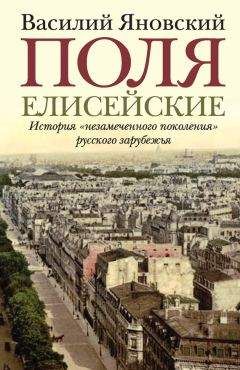Ирина Каспэ - Искусство отсутствовать: Незамеченное поколение русской литературы
Конструкт поколения, по определению Ортеги-и-Гассета представляющий собой «динамичный компромисс между массовым и индивидуальным»[364], становится своеобразным алиби для наших героев. Он позволяет признать «одиночество» коллективным переживанием, причем характерным не только для замкнутого круга эмигрантских литераторов, но и для обобщенного «человека 30-х годов». Более того, вместе с конструктом поколения закрепляются приоритетные формы идеального взаимодействия: возможность эмпатии, понимания друг друга с полуслова. Заявляя о своей принадлежности одному поколению, участники «монпарнасских разговоров» заявляют и о том, что они «говорят на одном языке». С такой точки зрения общий язык вырабатывается сам собой, без сознательных усилий, что и позволяет сохранить за говорением особый статус — статус ритуала, коллективного обращения к запредельному и невыразимому.
Литература как институт незамеченности
«Путь в литературу» описывается нашими героями — прежде всего, конечно, Владимиром Варшавским в его «Незамеченном поколении» — как сопряженный с повышенными трудностями. «Путь в литературу», как мы уже выяснили, подразумевает здесь стремление включиться в сообщество эмигрантских литераторов, при этом переструктурировав его, определив существующую «литературу» как старшую и противопоставив ей абстрактную молодость. Признанные литераторы, которые с появлением «молодого поколения» превращаются в «старших», безусловно, поддерживают замкнутость своего сообщества, это среда с распределенными ресурсами и ролями, среда, блокирующая каналы восходящей мобильности.
В то же время именно из-за узости круга сам процесс социализации начинающих поэтов и писателей значительно упрощается: сильно огрубляя, можно сказать, что в замкнутом эмигрантском сообществе легче оказаться замеченным. Тут важно, что эмиграция деформирует механизмы разграничения «актуальной» и «второстепенной» литературы, «мейнстрима» и «маргинальности». Марк Слоним замечает: «В России мы хорошо умели отличать литературную „столицу“ от литературной „провинции“: здесь, за рубежом, все объявлены столичными жителями, все принимается всерьез <…>. В эмиграции и читатель, и средний критик твердо взяли линию на литературную провинцию»[365]. Понятно, что ущербность института литературы (дезориентация, отсутствие устойчивых эталонов, снижение критериев оценки, фобия «провинциальности», фобия «тупиковости») в данном случае осознается в той же мере, в какой кажутся ущербными все прочие вывезенные, реконструированные в эмиграции социальные институты. «Столица» и «провинция» неразличимы не только и даже скорее не столько в пространстве литературы, сколько в социальном пространстве вообще. Идея «зарубежного государства», «единого государства эмигрантов», с одной стороны, активно поддерживается интеллектуальной элитой (в частности и в особенности литературной), а с другой, сохраняет статус мифа, метафоры, миража[366] — и только в таком качестве может быть принята. Институционализация «зарубежного государства» вызывает отторжение далеко не только у Слонима, известного своими просоветскими симпатиями. Так, Юрий Терапиано пишет: «Создалось государство в государствах, определимое даже территориально, новая славянская страна, наподобие какого-нибудь балканского государства. Сами того не замечая, мы выпустили из рук великодержавный масштаб прежней России и подменили его мерой несравненно меньшей, но жизненно стойкой. Именно то обстоятельство, что в рассеянии мы сумели организовать свой устойчивый быт, свою прессу и свою зарубежную литературу, повело, при недостаточности внимания к себе, к превращению Исхода в новообразование <…>. Ужасно, если так окажется»[367]. Иными словами, наши герои осознают свою принадлежность призрачному государству, но это воображаемое гражданство не только приобретает отчетливый уничижительный оттенок (явное обмельчание по сравнению с масштабами российской империи), но и легко может быть подвергнуто сомнению. Стать центром такой фиктивной страны пытаются самые разные институции и институты (от «Русского эмигрантского комитета» до собственно «литературы»). Однако ни одна из этих организаций или инстанций не обладает полномочиями перевести идею зарубежного государства из публицистической модальности в политическую[368], связать в единую систему осколки тех эмигрировавших институтов, которые продолжают определяться через национальную атрибутику. Понятно, что положение компенсируется, с одной стороны, акцентированным переживанием «одиночества и свободы», а с другой — постоянным подчеркиванием, утрированием «национального» на наиболее официальных, авторитетных уровнях.
Что происходит в этой ситуации с ролью «молодого литератора», с представлениями о литературном успехе, о «пути в литературу»? Отвергая образ эмигрировавшей, законсервированной литературы, наши герои противопоставляют ему образ «литературы в эмиграции», литературы, призванной «развиваться в новых условиях», в «подполье» и «катакомбах»[369], стать «Ноевым ковчегом» посреди прошлых и грядущих потрясений[370]. Казалось бы, здесь и должны срабатывать механизмы, описанные Бурдье в терминах «автономизации литературного поля»: литература как социальная практика формирует собственные символы успеха и признания, не зависящие от внешних, коммерческих или идеологических вызовов (крайний пример — «искусство для искусства»). Однако литература существует в подобном режиме лишь в том случае, если ее границы четко очерчены, если ей отводится определенное, устойчивое место среди других социальных областей, наконец, если отлажены те самые каналы экономических или политических поощрений, с которыми может конкурировать собственно литературный «капитал». И в условном зарубежном государстве, и в столь же условном зарубежном подполье такая независимость становится для «молодых литераторов» не менее шаткой позицией, чем ангажированность. В этом смысле любая сколько-нибудь отчетливая позиция, предполагающая то или иное видение места литературы в системе других практик и институтов, начинает казаться либо устаревшей и провинциальной, либо недостаточно эмигрантской. С этой точки зрения, скажем, Мережковский и «старшее поколение» вообще представляются слишком политизированными, Набоков — слишком искусственным, а раскупаемая, «потворствующая массовому вкусу», литература ущербной вдвойне, поскольку обслуживает замкнутый круг читателей-эмигрантов. Конечно, метафоры подполья или ковчега не только указывают на замкнутость литературного сообщества, под ними подразумевается не только «литература для избранных» — в отличие от «башни из слоновой кости», эти территории бегства отсылают к образу большой литературы, которая была разрушена или разрушается в настоящем, но непременно должна возродиться в будущем.
Итак, «входя в литературу», собираясь стать «литераторами в эмиграции», наши герои оказываются в лакуне между «маргинальностью» и «мейнстримом». Постоянная угроза ощутить себя провинциалами по отношению к метрополии или маргиналами в чужой стране предотвращается самыми разнообразными способами: будь то известная формула «мы не в изгнании — мы в послании», или распространенное представление о том, что «вывезен весь цвет русской литературы», или популярная в кругу «молодых литераторов» идея особой эмигрантской идентичности, близкой по своей структуре к разорванной идентичности «нового», «послевоенного» европейца. Общая растерянность и дезориентация побуждают в поисках актуальной литературы перекраивать призрачное зарубежное государство. В то время как за парижской диаспорой закрепляется статус литературной столицы («…Столица русской литературы не Москва, а Париж»[371] — это заявление Довида Кнута, в 1927 году прозвучавшее провокационно, позднее неоднократно цитировалось), эмигранты из Чехословакии преподносят себя в качестве незаслуженно обиженных провинциалов и провоцируют литературный скандал. Показательна реакция Ходасевича: по его мнению, именно «парижан», предъявивших необоснованные претензии на гегемонию, следует считать истинными «провинциалами»[372]. Наставник пражских «молодых литераторов» Альфред Бем со своей стороны замечает: «Устраним прежде всего одно недоразумение. Вряд ли кто-нибудь пытался оспаривать у Парижа его значение „мирового центра“. Дело шло о другом: в какой мере русский литературный Париж имеет право претендовать на гегемонию в литературе только потому, что он находится в Париже? А что, если русский литературный Париж вовсе не „столица“, а такая же „провинция“, как и все остальные центры русского рассеяния? <…> Во всяком случае, черты провинциализма, правда, особого „столичного провинциализма“, для русского литературного Парижа весьма и весьма характерны»[373].