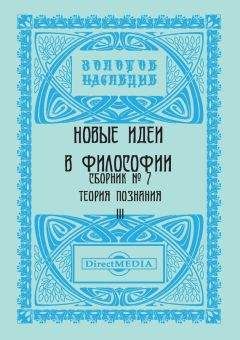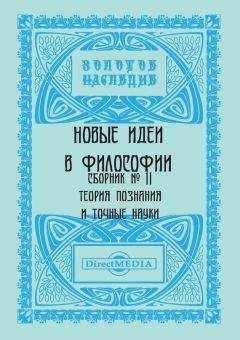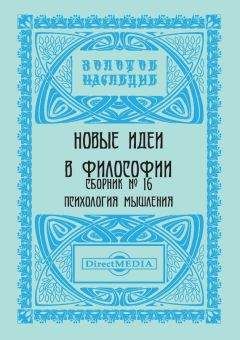Коллектив авторов - Новые идеи в философии. Сборник номер 12
Свою теоретическую Критику разума, эту формальную сторону своей философии, он впоследствии дополнил «Метафизическими началами естествознания», представляющими как бы материальную сторону ее, хотя разделению этому и не было дано созреть до истинного единства основоположений обеих частей, и его естествознанию не пришлось стать натурфилософией, так же, как ему не удалось развить всеобщее до совершенной гармонии его с частным. Еще в 1801 году, в немногие остававшиеся ему часы свободной силы мысли, он работал над трудом: «Переход от метафизики к физике», который, если бы время позволило ему завершить его, был бы, несомненно, одним из самых интереснейших. Его воззрения об органической природе были у него отделены от общего естествознания, они изложены им в его «Критике телеологической силы суждения», не объединенные с теми общими взглядами.
Также и широкое поле истории пронизал целым рядом лучезарных мыслей его дух, которому только помещала отличавшая его эпоху идея непрерывного прогресса человечества.
Проникающая все труды его наивность, часто обнаруживающая доброту его души, равно как и глубину его духа; нередко божественный инстинкт, уверенно ведущий его, сказались особенно в его «Критике эстетической силы суждения». Только чистотою истинно независимой души и великим прозрением ясного духа можно объяснить, что в эпоху глубочайшего принижения искусства; в эпоху, частью распыленную в пустой сентиментальности, частью ожидающую от искусства грубого, материального возбуждения, частью требующую от него нравственного воспитания или, по крайней мере, поучения или какой-либо другой пользы; в эпоху, совершенно забывшую или не оценившую то единственно прекрасное, что дано было ей в лице Винкельмана и Гете, – Кант возвышается до идеи искусства, независимого ни от какой другой цели, кроме лежащей в нем самом; вскрывает безусловность красоты и постулирует наивность, как сущность художественного гения. Все это вдвойне замечательно, если вспомнить, что частью природное умонастроение, частью жизненные обстоятельства (ибо далее нескольких миль он никогда не отлучался из своего родного города Кенигсберга) препятствовали ему приобрести историческое знание прекрасных творений изобразительного искусства, известного ему, впрочем, не лучше творений словесного искусства, среди которых поэмы Виланда (крайний предел знакомства его с немецкой поэзией) и Гомера стояли для него приблизительно на одной ступени. Если для объяснения своей теории гения он говорит: «Никакой Гомер или Виланд не может указать, каким образом могли возникнуть или встретиться в его голове его исполненные фантазии и вместе с тем глубокомыслия идеи, – не может потому, что он сам этого не знает», то неизвестно еще, чему должно больше удивляться – наивности ли, с которой Гомер приводится в пояснение (современного) понятия о гении; или добродушию, с которым о Виланде говорится, будто он сам не мог знать, как сошлись в его голове его исполненные фантазии идеи, что, по суждению знатоков французской и итальянской литературы, Виланд вполне точно мог знать. – Как известно, последний плохо воздал впоследствии Канту за его добродушие.
Несмотря на все эти черты, не подлежит никакому сомнению, что только со времени Канта и благодаря ему сущность искусства была высказана также и научно. Поистине, сам того не зная, он создал понятия, открывшие глаза также и на то, чтó в прошлом немецкого искусства было прекрасного и подлинного, – понятия, образовавшие эстетическое суждение. И, подобно всему более жизненному в науке, также и тот дерзновенный подъем, который отличает Критику последних лет, может быть косвенно сведен к его влиянию.
Это косвенное отношение ко всему позднейшему в известном смысле отделяет его от него, сохраняя чистоту его образа. Он как раз образует границу двух эпох в философии: одной, которую он навсегда закончил; другой, которую он отрицательно подготовил, мудро ограничив себя чисто критической целью.
Неискаженный грубыми чертами, которые приписывало ему непонимание тех, кто, под именем его толкователей и приверженцев, были в действительности лишь его карикатурами или плохими его копиями, а также чертами, которыми наделяла его неистовая злоба врагов, – образ его духа, в своей завершенной единственности, будет вечно сиять, пока стоит философия.
Распространение его философии среди других народов, кроме северных, всегда ближе примыкавших к немецкой культуре, до сих пор не имело значительного успеха, и не может при тех же условиях рассчитывать в будущем на таковой. Философия Канта и еще более его изложение ее носит резкий отпечаток национальности и очень много теряет в общепонятности и универсальности благодаря многократным ссылкам на господствовавшую до него в Германии школьную философию. Те, кто до тех пор пытался пересадить Канта на чужую почву, не были в состоянии отделить это только национальное, – эту примесь индивидуальности и времени, – от существенного, как например, г. Виллер, представивший, к тому же, своим соотечественникам Канта, искаженного всеми кривотолкованиями немецких кантианцев57. Тогда как философия Канта по необходимости должна остаться чуждой научно неподвижному народу, величайшими философами которого были Бэкон, Локк и Юм; наоборот, независимо от того, что иными сторонами своими она, действительно, могла бы стать в более близкое соприкосновение с французской культурой, – уже негодование главнейших французских журналистов по поводу учения и личности немецкого философа может служить доказательством того, что они к нему относятся далеко не с тем безразличием, как они хотели бы то показать. В особенности это справедливо относительно сенатора в Корнетте, который, чтобы отмстить за славу Канта, не мог, при бедности своего остроумия, выдумать ничего лучшего, как, воспользовавшись плоской эпиграммой Попа на Ньютона и переделавши ее на еще более плоский лад, применить ее к Канту, и который вообще мог бы смело ограничиться полемикой с единственно достойным его противником – аббатом Жоффруа.
В памяти своего народа, к которому, как духом, так и своими душевными качествами, он только поистине и может принадлежать, Кант будет вечно жить как один из тех немногих интеллектуально и морально великих индивидуумов, в которых германский дух созерцал себя самого в своей живой целостности: HAVE SANCTA ANIMA58.
1
Стр. 291 – 310, т. II соч. Ф. Г. Якоби (Leipzig, 1815). Приложение к диалогу «Давид Юм о вере, или идеализм и реализм» [Прим. перев.].
Статья эта имеет в виду исключительно первое издание «Крит. чист. разума», которое только и появилось в свет ко времени ее написания. Несколько месяцев после напечатания этой статьи появилось второе издание труда Канта, дополненное тем опровержением идеализма, о котором я подробно говорил уже во введении, предпосланном к этому второму тому моих сочинений. В предисловии к этому второму изданию (стр. XXXVII и сл.) Кант указывает читателю на улучшения в изложении, сделанные им в новом издании, не умалчивая при этом, что с улучшениями для читателя связана и некоторая потеря, так как, чтобы дать место более понятному изложению, пришлось кое-что опустить или сократить. – Я считаю потерю эту весьма значительной и желал бы замечанием этим побудить читателя, действительно интересующегося философий и ее историей, сравнить первое издание «Критики чист. разума» со вторым, улучшенным. Последующие издания представляют собой лишь простую перепечатку второго. Особое внимание обращаю я на отдел первого издания [стр. 103 и сл.] О синтезе воспризнания в понятии. Так как первое издание сделалось чрезвычайной редкостью, то хотя бы общественным и более полным частным библиотекам следовало бы озаботиться, чтобы немногие оставшиеся еще экземпляры первого издания не совсем пропали. Вообще недостаточно еще сознается, какую громадную пользу при изучении систем великих мыслителей доставляет ознакомление с ранними изложениями этих систем. Так, Гаманн рассказывал мне о Христиане Якобe Краузе, что этот последний навсегда остался ему благодарен за то, что тот ознакомил его с первым философским трудом Юма, «Treatise of Human nature» 1739, ибо, по его словам, ему только тогда стал ясен истинный смысл позднейших Essays.
2
Поэтому Кант и называет реалистов, которые не только эмпирические реалисты, мечтательными идеалистами, ибо они принимают предметы, которые суть лишь простые представления, за вещи в себе.
3
Следует остерегаться смешивать это Кантово утверждение с тем, часто высказывавшимся Лейбницем, мнением, которое так хорошо и понятно было изложено и Мендельсоном в его «Федоне», именно, что порядок, гармония и всякое вообще согласование многообразия, как таковое, находится не в вещах, но единственно в мыслящем существе совмещающем в себе многообразное и объединяющем его в одном представлении. Ибо, согласно последнему утверждению, порядок и гармония, воспринимаемые мною, менее всего субъективны, но то, что их обусловливает, лежит вне меня в предмете, и свойства предмета заставляют меня соединять его части так, а не иначе. Итак, предмет здесь предписывает законы рассудку в отношении понятий, которое этот последний образует в соответствии с ними, понятие во всех своих частях и отношениях дано предметом, и во мне лежит единственно само понимание.