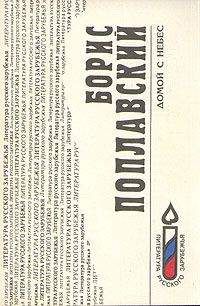Дмитрий Токарев - «Между Индией и Гегелем»: Творчество Бориса Поплавского в компаративной перспективе
Противительная конструкция с союзом «но», а также глаголы с семантикой убывания признака («нисходить», «редеть») с самого начала задают меланхолическую, пессимистическую тему, на которую не могут повлиять даже «всплески» цветовых эпитетов («желтые листья», «зеленый сад») и слов, обозначающих сиянье, яркость («яркое сиянье осенней лазури», «ярко горят лимонады»). Вообще, все строфы построены на контрасте между мотивом увядания и смерти и мотивом радости жизни: например, во второй строфе лирический герой жалуется на то, что молодость, ассоциируемая с катаньем на лодках и развлечениями в парке, проходит так же быстро и неожиданно, как лето. В следующей строфе синева, допоздна отражающаяся в стекле, сменяется лунным светом, что воспринимается поэтом как разрушение надежды, надежды на жалость.
Последнее требует пояснений; дело в том, что концепт жалости играет важнейшую роль в творчестве Поплавского и связан прежде всего с его глубокой, но при этом не ортодоксальной религиозностью. В статье «О смерти и жалости в „Числах“» Поплавский говорит о том, что многие молодые писатели и поэты эмиграции считают вопрос о религиозном опыте основным вопросом литературного творчества:
… и есть ли хоть кто-нибудь еще в русской литературе, который сомневался бы, что добро есть любовь и солидарность людей, все сумрак и ложь, на небе и на земле, и только одна точка ясна и тверда. Эта точка есть жалость, и на ней стоит Христос… (Неизданное, 263).
Православие воспринимается поэтом как «нищая» религия[114], «православие — болотный попик в изодранной рясе, который всех жалеет и за всех молится» (О мистической атмосфере молодой литературы в эмиграции // Неизданное, 259), — утверждает он, «модернизируя» идею Достоевского о слезе ребенка в русле символистской образности второй книги стихов Блока[115].
О Блоке он вспоминает и в рецензии на журнал «Путь», где излагает свое вйдение православия:
Христос католиков есть скорее царь, Христос протестантов — позитивист и титан, Христос православный — трости надломленной не переломит, он весь в жалости, всегда в слезах, потому-то все, далеко даже отошедшие от церковности, все же никогда с презрением о ней не говорят, а сохраняют навек некую боль разрыва с православием, как Блок (Неизданное, 279).
По убеждению поэта, именно «жалостливое» отношение к объекту изображения делает картину шедевром:
Картина может состоять только из нескольких мазков и быть глубочайшим шедевром (Матисс) — в том случае, если художник (живописно одаренный, конечно) как бы боится писать, священный страх его удерживает, как бы не налгать, не сделать лишнего, но с огромной «жалостью» и восхищенным любованием относится к своей модели (Около живописи // Неизданное, 331–332).
Литература же вообще есть «аспект жалости, ибо только жалость дает постигание трагического. Исчезновение человека. Таянье человека на солнце, долгое и мутное течение человека, впадение человека в море. Чистое становление. Время, собственно, единственный герой, всечасно умирающий. Отсюда огромная жалость и стремление все остановить, сохранить все, прижать все к сердцу» (По поводу… // Неизданное, 273). Две любимые темы лирической поэзии — любовь и смерть — неразрывно связаны с проблемой восприятия времени. Любовь есть попытка «спасения времени для некоей качественной вечности, некоего чувства сохранения и безопасности своей жизни, наконец спасенной от исчезновения в руках любимого человека». Смерть же, напротив, это расточение и исчезновение времени, ибо «душа умирает постоянно, и каждый день нестерпимей в розоватом дыме, как последний день, но главное — умирание часов и минут, отблесков и освещений, запахов и ощущений безвозвратно» (Неизданное, 102).
Цель поэзии не в преодолении времени и смерти, поскольку остановка времени и вечная жизнь означали бы конец музыки, которая есть движение, но в том, чтобы в каждом мгновении сопротивляться смерти и умирать, воскресая в мгновении новом: «…только погибающий согласуется с духом музыки, которая хочет, чтобы симфония мира двигалась вперед» (О мистической атмосфере молодой литературы в эмиграции // Неизданное, 258).
И современники, и исследователи творчества Поплавского очень часто видят в нем «певца смерти». Так, Георгий Федотов писал о культе смерти: «Сострадание, обнищание, „Кенозис“ не исчерпывают христианства. От славы Преображения „Кенозис“ ведет к небытию, сострадание — к общей и последней гибели. Здесь наше русское (а не православное) искушение. В этом корень народнического нигилизма и разложения Блока, благоговейная память о котором не требует следования его пути»[116]. Французская исследовательница Елена Менегальдо также настаивает на том, что «это принятие смерти, столь полное и столь естественное, ведущее к окончательному исчезновению, не должно нас удивлять, ибо лишь оно способно превратить простого смертного в поэта»[117]. И далее она приводит цитату, к которой я также обращался выше и где Поплавский говорит, что «принятие музыки есть принятие смерти». Однако подобная трактовка не отличается точностью, ведь Поплавский ясно указывает на то, что музыка как начало чистого движения, чистого становления и превращения «предстоит как смерть» единичному, законченному и временному. Другими словами, музыка воспринимается как смерть тем, кто существует во времени, ограничен в своих возможностях, страдает от одиночества, то есть человеком. Музыка воспринимается им как бы извне, точно так же, как и время — как «система отсчета и сравнения двух движений» (Неизданное, 102; об этом шла речь в предисловии). Извне человек воспринимает только внешний «слой» времени, в котором смерть является окончательной и бесповоротной; но в его внутреннем «слое» смерти нет, поскольку она побеждается вечным становлением, вечным движением, порождающим бесконечную «симфонию мира». Принятие музыки есть принятие смерти, так как без умирания нет рождения; однако принятие смерти не есть принятие музыки, ибо означает отказ от движения, «стабилизацию» и, следовательно, смерть музыки.
Конечно, Поплавский был болен той «болезнью к смерти» (С. Кьеркегор), которая и свела его в могилу в возрасте 32 лет. Болезнь эта была вызвана как внешними причинами (крайней бедностью, невостребованностью, конфликтами с родителями), так и особенностями психической структуры личности — ранимостью, мнительностью, склонностью к неврозам и комплексам, страстным желанием сближения с другим человеком и при этом страхом перед этим сближением, грозящим потерей собственной идентичности. Не стоит забывать и о том, что в поведении Поплавского было и немало позерства, аффектации, желания еще больше акцентировать свою непохожесть на других, свою исключительность — Поплавскому хотелось быть «проклятым поэтом» и он делал все, чтобы таковым казаться.
Зная все это, соблазнительно прочитать такое, например, стихотворение «Флагов», как «Роза смерти» (посвященное Георгию Иванову), как апологию смерти, тем более что и заканчивается оно этим словом:
В черном парке мы весну встречали,
Тихо врал копеечный смычок.
Смерть спускалась на воздушном шаре,
Трогала влюбленных за плечо.
Розов вечер, розы носит ветер.
На полях поэт рисунок чертит.
Розов вечер, розы пахнут смертью
И зеленый снег идет на ветви.
Темный воздух осыпает звезды,
Соловьи поют, моторам вторя,
И в киоске над зеленым морем
Полыхает газ туберкулезный.
Корабли отходят в небе звездном.
На мосту платками машут духи,
И сверкая через темный воздух
Паровоз поет на виадуке.
Темный город убегает в горы,
Ночь шумит у танцевальной залы,
И солдаты, покидая город,
Пьют густое пиво у вокзала.
Низко низко, задевая души,
Лунный шар плывет над балаганом,
А с бульвара под орган тщедушный,
Машет карусель руками дамам.
И весна, бездонно розовея,
Улыбаясь, отступая в твердь,
Раскрывает темно-синий веер
С надписью отчетливою: смерть.
Опять, как и в более позднем стихотворении «Солнце нисходит…», мы видим вечерний парк с балаганами и киосками, с бульвара доносится шум карусели, «свистит паровоз на кривой эстакаде». И снова поэт «чертит на полях» стихотворения сложный рисунок, главными персонажами которого являются жизнь и смерть. И если из «линейного» прочтения обоих текстов следует вывод о том, что смерть представляется поэту избавлением от земных страданий и тревог, то чтение текста как «рисунка» позволяет разглядеть в нем гораздо более сложную композицию, «силовыми» точками которой являются понятия, связанные со временем, — весна, осень, заря, закат.