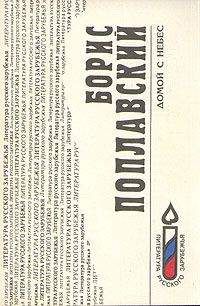Дмитрий Токарев - «Между Индией и Гегелем»: Творчество Бориса Поплавского в компаративной перспективе
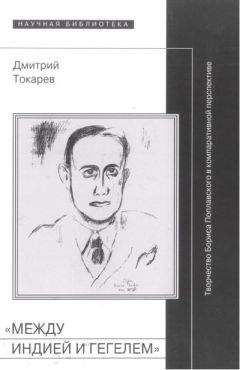
Обзор книги Дмитрий Токарев - «Между Индией и Гегелем»: Творчество Бориса Поплавского в компаративной перспективе
Токарев Дмитрий Викторович
«МЕЖДУ ИНДИЕЙ И ГЕГЕЛЕМ»
Творчество Бориса Поплавского в компаративной перспективе
Предисловие
МЕЖДУ ИДЕЕЙ И ОБРАЗОМ
Посвящается Вере
Борис Юлианович Поплавский (1903–1935) — один из самых талантливых и загадочных поэтов молодого поколения русской эмиграции первой волны. Все в Поплавском привлекало внимание, зачастую недоброжелательное: и внешний облик, и поведение, и стихи. Худосочный юноша в начале своей парижской жизни и спустя несколько лет — настоящий атлет, не упускавший возможности показать свою силу и вступавший в драки на улицах и в кафе. Автор статей о боксе и — вегетарианец, считавший, что главной темой литературы должна быть жалость. Человек, глаз которого из-за черных очков не было видно, и — писатель, создавший в своих романах целую мифологию дружбы. Плохо одетый бедняк и — монпарнасский денди, заявлявший, что «в повороте головы, в манере завязывать галстук, в тоне, главное, в тоне, — больше человека, чем во всех его стихах»[1]. Тонкий художественный критик, одаренный художник и — любитель парадоксов типа «отсутствие искусства прекраснее его самого» (О мистической атмосфере молодой литературы в эмиграции // Неизданное, 256). Русский «сюрреалист» и — почитатель Лермонтова и Блока. Мистик, аскет и философ и — наркоман, умерший от передозировки героина.
Георгий Адамович, в целом с симпатией относившийся к Поплавскому, написал после его трагической смерти:
Никогда нельзя было заранее знать, с чем пришел сегодня Поплавский, кто он сегодня такой: монархист, коммунист, мистик, рационалист, ницшеанец, марксист, христианин, буддист или даже просто спортивный молодой человек, презирающий всякие отвлеченные мудрости и считающий, что нужно только есть, пить, спать и делать гимнастику для развития мускулов? В каждую отдельную минуту он был абсолютно искренен, — но остановиться ни на чем не мог[2].
И в то же время наиболее проницательные критики уловили за этой внешней противоречивостью, калейдоскопичностью воззрений то глубинное единство художественной мысли, без которого невозможна настоящая поэзия. Вот что сказал об этом Владислав Ходасевич:
Кому случалось читать статьи либо заметки Поплавского или слышать его рассуждения отвлеченного характера, тот помнит, что все это было очень неясно, сбивчиво, а, главное, — совершенно противоречиво. Логической стройности, а тем паче — признаков сколько-нибудь последовательного мировоззрения не много найдется и в его поэзии. Она родственна музыке, не в смысле внешнего благозвучия, но в том смысле, что внелогична и до самой своей глубины формальна. Можно было бы сказать, что она управляется не логикой, а чистой эйдологией (прошу прощения за «страшное слово», некогда перепугавшее Максима Горького: оно означает систематику образов). Поплавский идет не от идеи к идее, но от образа к образу, от словосочетания к словосочетанию, — и тут именно, и только тут, проявляется вся стройность его воззрений, не общих, которых он сам до конца не выработал и не осознал, но художественных, чисто поэтических, которые были в нем заложены самой природой, как в каждом поэтически одаренном существе. Рекомендовать его книгу тем, кто ищет в поэзии ответа на вопрос: как жить? — было бы совершенно напрасно. Но ее можно рекомендовать любителям поэзии, пожалуй, того, что зовется «чистой поэзией». Вслушиваясь, вчитываясь в поэзию Поплавского, вникая в структуру и систему его образов, они, вероятно, смогут восстановить и основы некоего общего мировоззрения, которое в Поплавском, конечно, жило и по-своему развивалось, но которого сам он до конца не сознал — и, может быть, не хотел сознать, потому что должен был дорожить тем душевным сумраком, откуда возникали образы его поэзии[3].
Трудно, однако, согласиться с Ходасевичем в том, что это общее поэтическое мировоззрение складывается как бы независимо от поэта и целиком выводится из некой формальной эйдологии. Мне кажется, что проблематика взаимоотношений идеи, образа и слова у Поплавского гораздо сложнее.
Прежде всего отмечу, что Ходасевич противопоставляет идею и образ, относя сферу идей к области логики, к области смыслов, а образы расценивая как нечто внелогичное и «глубоко формальное». Вряд ли Ходасевич опирался здесь на конкретный философский источник, но надо сказать, что его мысль восходит к досократическому пониманию эйдоса как внешней структуры объекта, то есть его вида как наружности. В философии Платона эйдос начинает интерпретироваться по-иному, не как внешняя, а как внутренняя форма объекта: эйдос есть абсолютный и совершенный образ, идея предмета, отражением которой является сама вещь. Важно, что Поплавский в своих рассуждениях о музыкальной и живописной составляющих поэтического творчества (16 и 22 марта 1929 года) недвусмысленно демонстрирует свою зависимость от платоновской метафизики, что неизбежно поднимает вопрос об адекватности предложенного Ходасевичем подхода[4]. В этот период поэтика Поплавского освобождается от свойственного ей ранее авангардистского пафоса и становится подлинно оригинальной. Нуждаясь в теоретическом обосновании новой поэтики, Поплавский активно работает над тем, что можно без труда назвать его «метафизикой искусства». Рассмотрим последовательно ход мысли поэта.
«Искусство, — постулирует он, — рождается из разговора музыки с живописью. (Проявленного духа со сферой отражения и замирания.)» (Неизданное, 97). Музыка — это проявленный дух, «локализуемый» Поплавским в той сфере, которую он называет «вторым миром», находящимся в вечном движении. Первый же мир есть мир первичных неподвижных и, можно предположить, идеальных форм, порожденных предвечным духом[5]:
В нашем мире нет ни чистой материи, ни чистого духа. Но при первом остывании, или, вернее, при начале мечтания, дух рождает мир вечных форм, т. е. себе подобное.
Но что, проснувшись, сознает себя как единое, в противопоставление реальному небытию (своей объективности) видит раньше всего основные принципы своего врастания в него, своей связи с «тенденцией» к объекту, и это есть первый мир форм.
Эти первые формы неподвижны, они качественно не меняются до вечера, до засыпания, мечтания. Второй мир есть мир музыки: т. е. мир этих форм в действии, т. е. вдыхания и выдыхания этими формами тьмы. (Так, музыка восходит к чему-то золотому, покоящемуся в своей основе.) (Неизданное, 97).
Нетрудно убедиться, что Поплавский довольно точно воспроизводит платоновскую структуру идеального умопостигаемого мира: у Платона абсолютная, то есть не обусловленная никакими другими, Идея называется Благом, которое не только делает идеи познаваемыми и ум познающим, но и производит бытие и сущность. Благо есть также функциональный аспект Единого, которому, как формальному принципу, противопоставлен принцип материальный — Диада, принцип множественности, играющий роль интеллигибельной материи. Из двух первоначал — Единого и Диады (Поплавский называет их духом) — возникают другие идеи, располагающиеся в иерархическом порядке, при этом их порождение нельзя трактовать как временной процесс. Каждая идея сама по себе неподвижна, но по отношению к другим идеям манифестирует себя как идеальное движение. В споре с элеатами Платон показал, что любая идея — то, что Поплавский определяет как вечную форму, — должна отличаться от других, а значит, быть «небытием» этих других идей. Скорее всего, не очень ясная фраза Поплавского о врастании единого в реальное небытие его объективности должна интерпретироваться именно в платоновской перспективе. Второй мир как мир движения, где формы «вдыхают» и «выдыхают» тьму, также, видимо, связан с мыслью Платона об участии или неучастии идеи в других идеях и о ее небытии в отношении всех прочих идей. Впрочем, Поплавский делает акцент на том, что формы могут умирать, но при этом рассматривает умирание не как исчезновение, а как изменение, перетекание одних форм в другие.
Мир эйдосов есть мир сущностей, мир неизменных моделей каждой вещи, и помещается он Платоном в наднебесную область, которую, в диалоге «Федр», он называет Гиперуранией:
Занебесную область не воспел никто из здешних поэтов, да никогда и не воспоет по достоинству. Она же вот какова (ведь надо наконец осмелиться сказать истину, особенно когда говоришь об истине): эту область занимает бесцветная, без очертаний, неосязаемая сущность, подлинно существующая, зримая лишь кормчему души — уму; на нее-то и направлен истинный род знания[6].
Поскольку идеи невозможно постичь чувственным способом, то и место, где они пребывают — наднебесная сфера, — есть лишь образ места, который не есть место. Поплавский называет это отсутствующее место первым миром форм. Далее он пишет об образовании третьего мира, сферы отражения и замирания: