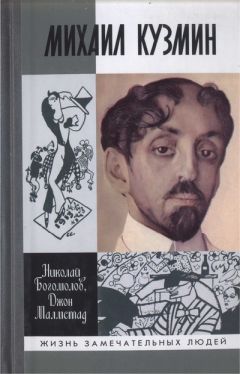Николай Богомолов - Михаил Кузмин
Суждения такого рода, насколько можно судить, волнуют Кузмина гораздо сильнее, чем разборы художественных достоинств произведения. Так, он никак не откликается на довольно подробный анализ поэтики «Крыльев» в одном из писем Г. В. Чичерина, чьим мнением он всегда дорожил, и даже в те самые годы, к которым относится письмо о «Крыльях», отмечал в дневнике другие мнения своего давнего товарища[78].
С одной стороны, это явственно свидетельствует о том, что Кузмину было важнее донести до читателей некоторые мысли своего романа, чем услышать суждение о его художественных особенностях, но с другой — о том, что произведение было предназначено для формирования определенного круга сочувственников автора, которые могли бы сделаться членами какой-то гипотетической общности, объединенной не только гомосексуальными интересами (хотя они, бесспорно, были Кузмину весьма важны), но и сходством представлений об искусстве, а в конечном счете — и о жизни вообще.
И в этом смысле внешняя реакция непременно должна была сопрягаться у него с обликом реагирующего человека. Из дневника известно несколько случаев, когда восторженные почитатели Кузмина вызывали у него неодолимое раздражение. Так произошло, например, с бароном Георгием Михайловичем фон Штейнбергом, которого Кузмин с еще некоторыми людьми (С. А. Ауслендером, Б. А. Леманом, П. П. Потемкиным, В. Ф. Нувелем) подверг утонченным издевательствам, вызвавшим обиженное письмо униженного барона:
«Вас, наверное, очень удивит мое письмо, т. к. мы условились говорить с Вами по телефону, но, может быть, прочтя это письмо, Вы придете к заключению, что нам говорить вообще больше с Вами не о чем. Я собираюсь поделиться с Вами моими мыслями и впечатлениями о вчерашнем вечере. Мистифицировали ли Вы меня? Если да, то не буду разбирать и оценивать роль и поведение Лемана и Потемкина, может быть, у Вас принято так обращаться с незнакомым, впервые встреченным человеком, это вопрос устава того или другого монастыря, кот<орый> может мне подойти или нет; но с Вами лично вопрос обстоит далеко не так; если это мистификация, то задуманная и подготовленная заранее, и, если бы после всех наших разговоров (хотя бы на извозчике) я имел бы право осудить Вас за насмешку надо мной даже экспромтом, то Вы, надеюсь, поймете, что обдуманное издевательство надо мной в присутствии и при помощи мне совершенно незнакомых людей должно было бы вызвать с моей стороны окончательный разрыв каких бы то ни было отношений между нами. Но этому верить я не могу и не хочу. Вы помните, я говорил Вам при нашей первой встрече, что мне приходилось всегда разочаровываться и ошибаться в людях мне симпатичных. Если бы в данном случае это было бы так, то ошибка в Вас была бы слишком груба и слишком жестока расплата за излишнюю экспансивность и доверие. Но даже если это не мистификация, то Вы виноваты в том, что не предупредили меня хотя бы в общих, ничего не значащих словах о том, что может произойти. Вы должны были бы (если я не стул и не стол для Вас) понять, насколько мне вначале многое у Вас было непонятно и чуждо; ведь, собственно, если во мне и есть задатки, благодаря кот<орым> я, может быть, и могу со временем жить в тон с Вами, то пока ведь я еще совершенно de l’outre Rhien, филистер, которому нужна была бы твердая и преданная рука, чтобы направить его через кладку на эту сторону реки. Если это все было серьезно, то, может быть, Вы не имели права предупредить меня? Вы видите, я ищу объяснений сам; мне было бы очень больно, если бы это оказалось на деле так грубо и недоброжелательно. Если Вы, по Вашему мнению, уже достаточно посмеялись надо мной и больше я Вам уже ни для чего не нужен, то Вы не постараетесь объяснить мне вчерашний вечер; но если Вы можете хоть что-нибудь сказать, чтобы выяснить его, я буду ждать; но, предупреждаю, — долго ждать тяжело, легче сразу решиться и вычеркнуть. Отчего Вы так меняетесь вообще? Вчера Вы были совершенно чужой и далекий; это выводит из равновесия, а попадая в совершенно незнакомую среду равновесие необходимо.
Жду ответа. Жорж»[79].В некоторых отношениях аналогична была история с неким натурщиком Валентином, который, прочитав «Крылья», принес Кузмину свой дневник, где было записано несколько его гомосексуальных приключений.
27 февраля Кузмин заносит в дневник: «Днем неожиданно явился какой-то тип в берете, зеленой бархатной рубахе под пиджаком без жилета, с ярко-рыжими кудрями, очевидно, крашеный. Оказывается, натурщик Валентин, где-то читавший „Крылья“, разузнавший мой адрес и явившийся, неведомо зачем, как к „русскому Уайльду“. Большей пошлости и аффектации всего разговора и манер я не видывал. Он предлагал мне свои записки как матерьял. М<ожет> б<ыть>, это и интересно. Но он так сюсюкал, падал в обморок, хвастался минут 40, обещая еще зайти, что привел меня в самый черный ужас. Вот тип. Оказывается, знает и про „Балаганчик“ и про Сережу, которого он считал братом и т. п.». На следующий день, прочтя принесенное, он так сформулировал свое впечатление: «Дневник Валентина — что-то невероятное, манерность, вроде мечты о жизни бульварного романа, слог — все необыкновенно комично, но есть неожиданные разоблачения и сплетни». И далее, на протяжении довольно продолжительного времени этот дневник время от времени всплывает в дневнике Кузмина: то его читают в дружеском общении, то он должен был стать основой для задуманной, но не осуществленной повести «Красавчик Серж», предполагавшейся писаться без оглядки на цензуру. Не лишено интереса, что дневник этот все-таки послужил основой литературного произведения, только автора, причисляемого к совсем иному разряду писателей, чем Кузмин: в романе Н. Н. Брешко-Брешковского «Петербургская накипь», печатавшемся осенью 1907 года в «Биржевых ведомостях», в фигуре натурщика Клавдия Кузмин без труда узнал знакомого ему Валентина[80].
Таким образом, интерес Кузмина к откликам подобного рода обнажал возможность пересечений его творчества с литературой самого низкого разбора, что в первые годы деятельности было, очевидно, для него немыслимым. Ориентируясь на журналы символистской направленности, он с некоторой иронией наблюдал за рецепцией своего творчества в массовой печати. Дневник и письма 1907 года, особенно его лета, демонстрируют пристальное внимание Кузмина к малейшим откликам на его произведения. Последней новинкой сезона стал альманах «Белые ночи», где были напечатаны одновременно повесть «Картонный домик» и стихотворный цикл «Прерванная повесть». На лето Кузмин уехал в провинцию, но ряд петербургских журналов и газет он получал и внимательно следил за ними, тщательно отмечая и хроникальные заметки (например, о своем отъезде из Петербурга)[81], особенно если они были связаны с какой-нибудь нелепицей (как, например, в хронике газеты «Русь» от 6 июля: «Автора нашумевшей повести „Крылья“ в среде его близких приятелей в шутку называют „мэтр“ <…> В только что вышедшей маленькой, чрезвычайно изящно изданной книге его „Приключения Эмиля Эбефа“ галантно обрисованы веселые нравы средневековья»), и многочисленные критические статьи (например, «В алькове г. Кузмина» В. Ф. Боцяновского[82] и его же отклик «О греческой любви»[83]), и сатирические стихи (как, например, «Чемпионат» Сергея Горного:
Кузмин всемирный взял рекорд:
Подмял маркиза он де Сада.
Александрийский банщик горд…
Вакханту с крыльями отрада.
Де Саду сделав два parade’a,
Кузмин всемирный взял рекорд…[84]),
и пародии, и шаржи, и сатирические театральные представления, и пр.
3 июля, прочитав немалое количество таких откликов, Кузмин писал своему другу В. Ф. Нувелю:
«Милый друг, что Вы меня совсем забыли? или Вы думаете, что я уничтожен всеми помоями, что на меня выливают со всех сторон (и „Русь“, и „Сегодня“, и „Стол<ичное> утро“, и „Понед<ельник>“)? Вы ошибаетесь. Приятности я не чувствую, но tu l’as voulu, Georges Dandin».
Тем временем (возможно даже, что Кузмин знал далеко не обо всем, лишь постепенно осознавая смысл своей популярности) его имя стало стремительно мифологизироваться.
В статье «Кузмин осенью 1907 года» мы попытались показать, как этот миф создавался, здесь же отметим, что сутью его было двоение образа поэта: с одной стороны, завсегдатай эротических клубов, угрожающий нравственности молодых людей, а с другой — затворник, поглощенный медитациями, мистически настроенный и жгущий в своей комнате ладан. Особенно существенно для нас, что сам Кузмин старательно поддерживал свою репутацию в обеих ипостасях столичных толков, добиваясь создания совершенно определенной художественной личности.
Можно полагать, что окончательное оформление кузминского мифа позволило поэту в дальнейшем не следить с таким пристальным вниманием за своей литературной репутацией, поскольку формирование мифа есть уже высшая точка репутации. Именно этот миф в различных его модификациях дошел до наших дней: с одной стороны, это «адский» Кузмин, облик которого запечатлен в строках «Поэмы без героя», в заметках Ахматовой и в ее словах, зафиксированных различными мемуаристами. С другой — тот явно неприязненный, но свидетельствующий о глубинности личного отношения портрет Кузмина, который возникает на страницах критических статей Г. Адамовича или «Петербургских зим» Г. Иванова.