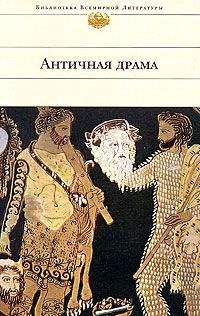Фаддей Зелинский - Софокл и его трагедийное творчество. Научно-популярные статьи
2) Из крупных хорических песен трагедии первая, исполнявшаяся непосредственно после появления хора, называлась «пародом» (πάρoδoς, «вступление», остальные – стасимами (στάσιμoν дополняй μέλoς, буквально «стоячая» песнь, т. е. исполнявшаяся на месте, а не при вступлении). Первоначально разница между ними была крупная, когда пролога не было и хор при своем вступлении излагал причину своего появления и этим заодно «экспонировал» трагедию («Персы» и «Просительницы» Эсхила). Его песнь тогда начиналась с длинного ряда анапестических «систем»[10], после которого исполнялась настоящая хорическая песнь, ничем не отличавшаяся от стасимов. У Софокла еще сохранились пережитки этой старинной композиции парода – всего откровеннее в «Аянте», где хор, совсем по-эсхиловски, появляется под звуки длинной анапестической песни, за которой следует настоящая хорическая песнь. В «Антигоне» анапестические системы искусно сплетены с хорическими строфами; то же самое наблюдается и в «Эдипе Колонском» и в «Филоктете»; в «Электре» анапестическая песнь тоже, как в «Аянте», предшествует хорической, но она дана не хору, а героине.
А раз за анапестической системой установился характер маршевой песни, то было очень заманчиво воспользоваться ею для сопровождения вступления не хора только, но и действующих лиц; особенно много таких маленьких «актерских пародов» в «Антигоне». А равно – и это стало правилом – для проводов хора. Почти обязательно так называемый эксод (так называется последнее действие, после которого актеры и хор уходят) под конец переходит в такую анапестическую сцену; исключением является только «Царь Эдип», в котором анапестическая система заменена рядом трохеических тетраметров. И нет сомнения, что эти торжественные маршевые анапесты составляют прекрасные заключения, возвращающие покой и равновесие взволнованной трагическим действием душе – особенно когда они разрастаются в целую сцену, как в «Аянте», «Филоктете», «Эдипе Колонском» и «Трахинянках».
Можно поставить вопрос, как произносились те анапесты, которые приходились на долю хора, – всеми ли пятнадцатью хоревтами, или одним только корифеем. Рукописи не дают на этот счет никаких указаний; всё же есть улики, говорящие в пользу последнего произношения. Строго доказанным, однако, это предположение считаться не может.
3) Третьей основной разницей между лирической и драматической техникой является возможность в драме распределения хорической песни между хором и действующим лицом. Такая песнь называлась у древних κoμμός, и уже само имя («удар» дополняй «в грудь») доказывает нам, что мы имеем здесь пережиток древней заплачки. Иногда и у Софокла содержанием такого коммоса остается плач о гибели героя – иногда, не везде; но везде мы имеем дело со «сценой пафоса». Формальных разновидностей довольно много. Иногда очередная хорическая песнь разнообразится тем, что в ней участвует действующее лицо – таковы парод «Электры», третий стасим «Филоктета»; чаще пафос диалогической сцены усугубляется введением в нее музыкального и лирического элемента. Иногда лирические места произносятся только действующим лицом, между тем как хор отвечает ему спокойными диалогическими триметрами, обыкновенно двустишиями – это вполне соответствует умеряющей роли хора; иногда, хотя и реже, мы имеем обратное явление. Следует отметить во всех этих коммосах строгость строфического соответствия: не только размер строф повторяется в антистрофе, но и чередование лиц, даже в тех случаях, где они произносят всего несколько слов.
В этих «сценах пафоса» мы нередко встречаем размер, который вне их мало употребляется – так называемый дохмический, самый патетический из всех, которыми располагала богатая метрическая палитра древних. Состоит дохмий из ямба и кретика – что при тоническом претворении дало бы стих вроде «Возьми огнь святой» («Царь Эдип»).
* * *Довольно, однако, о форме; перейдем к вопросу о содержании хорических песен. Или, что одно и то же, к вопросу: что такое хор в античной трагедии?
Нет ничего легче, как ответить на него исторически. Первоначально, когда трагедия была еще кантатой, хор как исполнитель этой кантаты был всем или почти всем. Тот единственный актер, которым располагал Фриних, появляясь в различных ролях, мог быть только рассказчиком, а не носителем трагического действия: он своим рассказом о происшедших за сценой событиях давал хору тот эпический материал, который западал в его душу, претворяясь в дифирамбическую песнь радостного или чаще горестного экстаза. Но вот Эсхил прибавляет второго актера, Софокл – третьего; трагедия мало-помалу из кантаты превращается в драму, действие которой происходит уже не за сценой, а тут же на сцене и, стало быть, в присутствии этого самого хора. Орест открывается Электре при пятнадцати свидетельницах, при стольких же Федра развивает свое намерение оклеветать своего пасынка, Медея – убить своих детей. Правдоподобно ли это? Так-то хор чувствуется чем далее, тем более как неудобная помеха действию; его не устраняют – обрядность Дионисий этого не допускала, – но игнорируют. Действие на сцене происходит, как будто его и не было, а между действиями он исполняет для развлечения зрителей песни любого содержания, ничем не связанные с самой трагедией, – так называемые ἐμβόλιμα. Так обстояло дело в послееврипидовской трагедии; мы о ней не много знаем, но это мы знаем.
Итак, вот два одинаково рациональных решения вопроса: хор как исполнитель трагедии-кантаты и хор как исполнитель вокальных интерлюдий между действиями трагедии. Начало и конец: Фриних и, скажем, Астидамант. А посредине, стало быть, нерациональность, половинчатость, вливание нового вина в старые мехи? Да, конечно; но только эта середина – Эсхил, Софокл и Еврипид.
Нет, по-видимому, то заключение было слишком прямолинейным. Подойдем к вопросу с другой стороны: чтобы убедиться, для чего нужен Софоклу хор, попробуем его устранить. Возьмем, например, четвертое действие «Царя Эдипа»; поставим его в условия нашей сцены. Все ужасы раскрылись; Эдип понял, что он не только убийца Лаия, но и его сын и вместе с тем – муж своей матери. Под гнетом этих невыносимых открытий он мчится во дворец – и тут, значит, в тот момент, когда зритель более всего потрясен увиденным и услышанным, когда у него глаза влажны и грудь волнуется, – внезапно занавес, яркое освещение залы, аплодисменты, вызовы. Что сказал бы Софокл об этом грубом вторжении действительности в мир иллюзии? Одно слово: «Варвары!»
А у Софокла как? Эдип исчез в сенях дворца, но дворец стоит и вместе с ним стоит иллюзия. Стоят также старые советники царя; и вот после паузы, точно колыбельная песня из уст давно почившей матери, раздается грустно ласкающий напев, сопровождающий слова:
Горе, смертные роды, вам!
Сколь ничтожно в глазах моих
Вашей жизни величье…
Несчастье Эдипа растворяется в общечеловеческой доле, трагедия незаметно переходит в элегию; это – утешение грустное, но все же утешение; волнение груди стихает, силы возвращаются. Теперь можно воспринять и остальное.
Вот смысл хора у Софокла. Он – носитель и блюститель настроения, спасительная оболочка иллюзии, охраняющая ее от разрушительного вторжения действительности. Но, конечно, он в состоянии исполнить эту роль лишь под условием, чтобы ему оставили если не всю хорею, то хоть ту ее часть, которая понятна и нам, т. е. музыку, родную стихию настроения; сводить хорическую песнь к декламации, хотя бы и унисонной, – новое варварство, ничуть не лучше того прежнего.
И вот, по-видимому, причина, почему Гораций в своей «Поэтике», восставая против превращения участливой хорической песни в вокальную интерлюдию, требует сохранения за хором того его положения, которое он занимает у Софокла:
Роль и значенье актера должны мы за хором оставить
И не давать ему петь между актами песни, которых
Смысл с содержанием драмы и с действием сцены не связан.
Пусть он, сочувствуя добрым, дает им благие советы;
Пусть вразумляет вскипевших, в испуганных бодрость вселяет,
Честь отдает нероскошной трапезе, законность и правду
И об открытых вратах благодетельный мир восхваляет;
Пусть он о тайне молчит и к всевышним молитвы возносит,
Чтобы, оставивши злых, к обездоленным счастье вернулось.
Все это, впрочем, отдельные наставления, коим нетрудно было бы подобрать иллюстрации даже в сохранившихся драмах Софокла. Не так легко ответить на вопрос, отождествляет ли поэт себя со своим хором, проводит ли он через него те воззрения, которые он желал бы внушить своим зрителям. Замечу тотчас, что положительный ответ на этот вопрос впал бы в противоречие с выставленным Горацием принципом: если бы хор был глашатаем поэта – он не был бы актером. И мы равным образом разошлись бы с действительностью. В «Семи вождях» Эсхила, например, целью поэта было, как мы знаем (Аристофан, «Лягушки»), закалить дух своих сограждан; а хор у него в страхе бросается к кумирам богов и получает от царя заслуженный выговор за то, что он своими жалобами вселяет малодушие в воинов, – дело в том, что хор здесь состоит из фиванских женщин. Но, с другой стороны, сравните молитву к судьбе в «Царе Эдипе», гимн в честь Колона в «Эдипе Колонском» и ряд других – разве не явно здесь сам поэт говорит с нами устами своего хора?