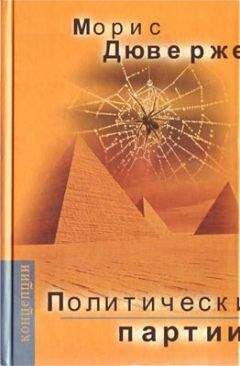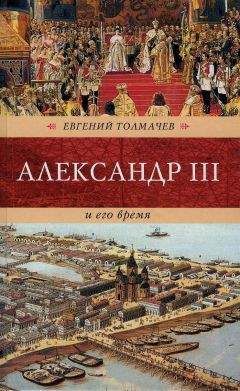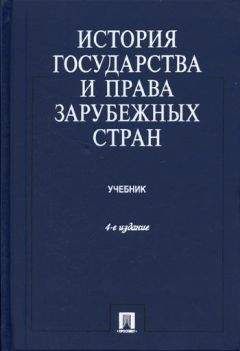Коллектив авторов - Политические партии Англии. Исторические очерки
Олицетворением кавалера слывет принц Руперт, который был племянником Карла I, сыном его сестры Елизаветы и курфюрста Пфальцского Фридриха. Несмотря на молодость (в Англию он приехал в возрасте 23 лет), Руперт имел военный опыт, накопленный в войне против Империи и пригодившийся роялистам. Обеспечивший им первые военные успехи, он вызывал ненависть, как у круглоголовых, так и у части королевской партии. Молва приписывала ему колдовские способности, а о его любимой собаке, убитом в 1644 г. пуделе Бой, с которым он никогда не расставался, говорили, что это фамильяр, дух зла. Имя Руперта с намеком на его колдовские способности упоминалось, когда незадолго до битвы при Незби началась очередная охота на ведьм в Восточной Англии[131]. Кларендон давал, разумеется, без намеков такого рода негативную оценку Руперту: «Нелегкий характер принца, отсутствие опыта, приобретаемого при дворах, сделало его неспособным взаимодействовать с лордами, которые, в свою очередь, не были расположены к взаимодействию с ним. В то же время некоторые кавалерийские офицеры рассчитывали, что с влиянием принца вырастет и их влияние, мечтая, чтобы никто, кроме него, не пользовался у короля доверием. Итак, война едва началась, но в армии уже возникла фракция, на появление которой мудрые люди смотрели, как на зловещее предзнаменование; неудобства, проистекавшие из этого, в самом скором времени принесли королю великие несчастья»[132]. Отношение Хайда к Руперту трудно назвать иначе, как предвзятым, и оно свидетельствует о глубоких разногласиях среди роялистов, о которых речь идет ниже.
Историки, в основном более благожелательно настроенные к Руперту, чем Кларендон. Ф. Хайэм, утверждали, что именно Руперт дисциплинировал войско роялистов, превратив его в боеспособную силу: «С приходом Руперта весь tempo роялистской армии изменился. Молодой и красивый, с годами он приобрел еще большее очарование. Став не таким опрометчивым, он потерял стремительность и живость, но обнаружил сердечную доброту. Он не был пуританином в речах и делах, но был строгим протестантом с умеренными взглядами. Главное, что он был человеком чести, и солдаты его любили. Карл чувствовал, будто вернулся к военным мечтам собственной молодости. Его уверенность в себе, лучше видная не на совете, а на поле брани, укреплялась. Руперт, а не Хайд господствовал в голове у короля»[133]. Историк М. Эшли писал: «Руперт, которого король поставил во главе кавалерии, сразу показал себя самым энергичным из королевских офицеров и советников. Но будучи молодым, он был бестактен»[134]. В своем фундаментальном исследовании роялистского лагеря в гражданской войне Р. Хаттон утверждал, что Руперт был не только талантливым военачальником, но и замечательным администратором: «Сначала принц исполнял административные обязанности с беспрецедентной энергией и широким видением»[135]. Сколь ни различны, даже противоречивы, оценки, дававшиеся Руперту, можно предположить: именно он, а не Фолкленд, не Дигби, тем более, не Хайд, в наибольшей степени (может быть, наравне с самими Карлом I) способствовал формированию обобщенного образа кавалера[136]. Военные успехи Руперта, как ни парадоксально, не способствовали укреплению его положения при дворе, поскольку королева Генриетта Мария воспринимала его как своего самого опасного соперника во влиянии на Карла I.
Главным компонентом парламентской пропаганды стала религия. Как отмечает Карлтон, «в отличие от роялистов, опиравшихся на легитимную традицию, парламенту было трудно, почти невозможно, оправдать борьбу против короля. В конечном счете, противники короля нашли решение в религии»[137]. Отношение к войне в христианстве амбивалентно. В первоначальном христианстве любая война осуждалась, его приверженцы были пацифистами. Пацифистских идей придерживались анабаптисты и квакеры. После того как христианство стало господствующей религией, оно приняло идущую от римского права концепцию «справедливой войны». Какую войну можно считать справедливой? От Августина Блаженного идет представление о том, что справедливой является та война, которую скрепляет своим авторитетом правитель. В XVI в. Макиавелли утверждал: справедливая война – это необходимая война, и правитель определяет ее необходимость. Такой подход унаследовали протестанты; по мнению Лютера, война является таким же необходимым делом, как есть или пить; с того момента, как она объявлена, солдат не несет ответственности за то, что вынужден убивать, как палач, казнящий по приговору суда. Таким образом, для пуритан гражданская война стала чем-то вроде крестового похода, в который вступили избранные Богом. Разумеется, на практике религиозный фанатизм был присущ не всему парламентскому войску, возможно, тем, кого принято называть «армией нового образца». Тем не менее, в пропагандистском отношении концепция «войны за веру» была привлекательной. Сам король, будучи твердым сторонником англиканской церкви с ее епископальным устройством, давал поводы, например, беспочвенно надеясь, по крайней мере, в годы войны, опереться на ирландских католиков. Это способствовало закреплению представлений о кавалерах как о тайных или явных пособниках католицизма. Однако даже в тех регионах, где господствовали роялистские настроения, это вело к широкому разочарованию у джентри и низших слоев. Известно о бунтах солдат-роялистов при известии о приглашении ирландских войск[138].
Судить о том, насколько эффективной была пропаганда в 1642 г., трудно. В современной историографии, как правило, отвергается присущая марксизму идея о делении на кавалеров и круглоголовых на основе классовых различий. Историки показали: мотивы, побуждавшие идти на войну и выбрать ту или иную сторону, были различными и часто довольно случайными. Во многих случаях были разорваны дружеские и семейные связи. Возможно, самым известным примером такого рода является история семьи Верни. Ее глава, сэр Эдмунд, стал на сторону Карла I не в силу убеждений, а исходя из своих представлений о порядочности и верности. В письме Хайду он делился своими переживаниями: «Вы счастливы тем, что Ваше сознание говорит Вам, что королю не следует уступать в том, чего от него добиваются. Ваша совесть и ваши обязательства заодно. Что касается меня, мне не нравится эта ссора, и я от всего сердца хочу, чтобы король уступил, согласившись с тем, чего они хотят, но чувство чести и благодарность заставляют следовать за моим господином. Я ел его хлеб, служил ему почти тридцать лет и не совершу низости, оставив его. Я предпочитаю потерять жизнь (уверен, что так и случится), оберегая и защищая то, против чего мое сознание»[139]. Его старший сын Ральф оказался на стороне парламента, а младший, тоже Эдмунд, воевал за роялистов и погиб в Ирландии в 1649 г. Комментируя эту историю, А. Н. Савин писал о «душевных муках» сэра Эдмунда, о том, что перспектива, будто Ральф может в каком-либо сражении биться против отца и братьев, ужасала семью. Наверное, старший Верни тоже повлиял на формирование романтического образа кавалера. Будучи королевским знаменосцем, он погиб в первом крупном сражении – при Эджгилле. Ему отрубили руку, державшую штандарт. Тело Верни найдено не было, хотя его сын-парламентарий специально посылал людей, чтобы его разыскать. Ходили слухи, что кто-то нашел отрубленную руку, на пальце которой было кольцо, подаренное королем сэру Эдмунду. Рассказывают (возможно, всего лишь для привлечения туристов), что в доме Верни в Бэкингемшире до сих пор появляется привидение, ищущее отрубленную руку.
Как показал Карлтон, решение идти на войну было часто эмоциональным, и зависело от характеров. Есть люди, которых можно отнести к числу прирожденных солдат; они легче адаптируются к агрессии и быстрее привыкают к тому, что дает война: умению подчиняться, передавая решение и ответственность старшим, находить удовольствие в чувстве братства, основанном на общем переживании опасности. Некоторые старались прочитать все то, что могло помочь в принятии решения; другие обращались к астрологам. Кто-то видел в уходе на войну избавление от повседневных забот, например, от опостылевшей беременной подружки. Однако нередко дружба, родство или зависимость играли роль. Так, арендаторы часто следовали за землевладельцами. Однако, как утверждает Андердаун, решающую роль в выборе играли региональные особенности, в том числе культурного характера.
Если о мотивах вступления в войну представителей роялистской элиты можно судить на основании сохранившихся источников, то дело обстоит куда хуже, когда речь идет о простых солдатах армии Карла I. Сохранились воспоминания, написанные после реставрации некоторыми низшими офицерами и солдатами парламентской армии, но неизвестны мемуары, составленные их противниками в войне, принадлежавшими к этому сословию. В этой связи большой интерес вызывает статья М. Стойла, который использовал новый источник, чтобы приоткрыть завесу над этой лакуной. В 1662 г. Кавалерский парламент принял акт, по которому за лицами, сражавшимися на стороне Карла I, утверждалось право на пенсию. Для этого ветераны роялистской армии обращались к судьям с прошением, в котором излагали сведения о себе и своей службе, с указанием лиц, могущих подтвердить их. Стойл проанализировал 202 отложившихся в архивах графства Девоншир прошения, составленных между 1660 и 1700 гг. Лишь немногие прошения были написаны ветеранами собственноручно, большая часть составлена или местными чиновниками, или профессиональными стряпчими со слов заявителей. На мой взгляд, Стойл провел блестящий текстологический анализ этих источников, учитывая то, что составители, чтобы повысить шанс на успех, часто прибегали к использованию языка самого парламентского акта 1662 г. Ему удалось сделать несколько весьма любопытных наблюдений о механизмах функционирования исторической памяти и характере представлений ветеранов о войне. Тем не менее, большой ясности о мотивах вступления в войну на стороне короля прошения не дают. В них этот вопрос не затрагивался глубоко, возможно, потому что ответ был «слишком очевиден современникам-консерваторам». Для обозначения чувств, побудивших встать под королевские знамена, ветераны использовали такие слова, как «верный», «покорный», «послушный», «искренний» (well-affected, obedient, constant, faithful, dutiful, true), а чаще всего, «верный подданный» (loyal subject). Хотя слово «честь» (honor) не встретилось автору статьи ни разу, возможно, потому, что такого рода добродетель считалась в иерархическом обществе прерогативой джентри, «петиции включены в аристократический дискурс элиты о чести и верности, являющийся общим местом для высших офицеров-роялистов. То ли просители действительно так объясняли свое решение, то ли просто копировали слова из Акта 1662 г. сказать трудно»[140]. В прошениях использовались разные обозначения войны. Термин «мятеж» или «мятежные времена» использован всего в семи случаях. Несколько раз упоминалось о «войне короля Карла I», что было не самым удачным выбором, ибо косвенно возлагало долю вины за нее на самого монарха. В шести случаях использован термин «гражданские войны», в одном «противоестественная и не гражданская война» (unnatural and uncivil war). Как правило, составители тяготели к нейтральным обозначениям, таким как «смута», «противоестественная войны», «беспощадная и несчастная война», но чаще всего «прошлая война». Такой выбор может свидетельствовать о стремлении следовать в духе постреставрационных настроений к примирению[141]. В этом же кроется объяснение того, как заявители называли своих прежних противников: в рассмотренных петициях их лишь несколько раз именовали «парламентариями», еще реже «мятежниками», и ни разу «круглоголовыми». В основном использовался самый общий термин «враг». Это вытекало из стремления «забыть», ибо «забывание» – способ избавления от травмирующих воспоминаний. В подтверждение Стойл отмечал, что один бывший кавалер в годы Реставрации заменил все упоминания в своем дневнике о «мятежниках» «парламентариями»[142].