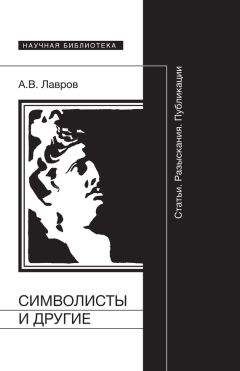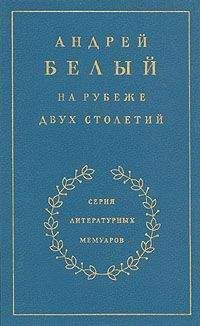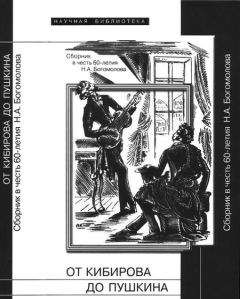Всеволод Багно - На рубеже двух столетий
2.2.1. Киноавторефлексивность получает прагматическое измерение постольку, поскольку фильм, заглядывая в себя, натыкается также на Другое, чем он. Она имеет, стало быть, как минимум два значения — собственное и несобственное. Второе из них наделяет авторефлексивный фильм прибавочной стоимостью, которая — в своей выигрышности — выступает как его цель, то есть функционализует его. Когда, скажем, Вертов сопоставляет съемочную камеру с пулеметом, кино о кино перестает быть «вещью-для-себя» — фильму предназначается стать техникой, насильственно превосходящей человека с его биологически ограниченным зрением. Опредмечивающий себя фильм потому и способен выполнять антикризисное задание, что само изображение, к которому присовокуплен комплементарный смысл, вырастает здесь в цене. Разумеется, целеположение, о котором идет речь, осуществимо только при том условии, что собственное и несобственное значения киноавторефлексивности расподоблены. По ходу киноистории их дифференцированность может, однако, стираться, сходя на нет. Погружение кино в самоосознание делается тогда дисфункциональным.
Такого рода дисфункциональность, намечающаяся уже в кинопрактике конца 1930-х годов, особенно очевидна в послевоенной комедии Александрова «Весна» (1947). Актриса Шатрова, которая должна сыграть в кино роль Никитиной, возглавляющей научно-исследовательский институт, обменивается с той позициями так, что никто не замечает quid pro quo. Замещая Шатрову, Никитина попадает на съемки фильма о ней самой и, оказавшись сразу оригиналом и копией, помогает режиссеру исправить слишком головной сценарий. В свою очередь, Шатрова, принятая за внешне похожую на нее Никитину, затевает в Институте Солнца бодрое хоровое пение со скучающими профессорами. В обоих случаях торжествует синтез науки и эстетики. И та и другая героини одинаково находят в финале любовное счастье в медиальном мире: Никитина с режиссером, Шатрова с газетчиком. Осветительные приборы в киностудии и установка по конденсированию солнечной энергии в научно-исследовательском институте уравнивают между собой эти места действия (к тому же институт сценичен: проводимый в нем эксперимент демонстрируется собравшейся там публике). Перед нами не средневековые образ и праобраз и не постмодернистские симулякр и оригинал, но энтропийное взаимоподобие, не позволяющее разграничивать «я» и «не-я», фикцию и действительность, вторичность и первичность. Киноавторефлексия делается избыточной, так как она теряет отличие от показа среды, существующей за пределом фильма. Авангардистское самоутверждение киноискусства менее всего занимает нивелирующее воображение Александрова, упраздняющего оппозицию «фильм/театр»: Шатрова успевает удачно выступать и в оперетте, и на съемочной площадке. Как и в «Новой Москве», где перепланировка города повторяется в киномодели, авторефлексия в «Весне»[1654] заходит в тупик, предвещая тот упадок сталинистского киноискусства, который наступит в начале 1950-х годов.
2.2.2. Трансцендентальное кинопроизводство стремится исчерпать себя и во второй серии эйзенштейновского «Ивана Грозного» (1946), но прямо противоположным образом, чем в «Весне». Глубоко автобиографичный фильм Эйзенштейна[1655] представляет собой в то же самое время попытку подвести итоговую черту под киноавторефлексивностью, раскрыть ее сущностное содержание, то есть восходит на метаавторефлексивную ступень, на которой теория кино и режиссерская практика сливаются воедино (гносеологическая установка «Ивана Грозного» эмблематизирована сгибающимися под низкими сводами фигурами многих персонажей и, прежде всего, самого царя, как бы превращенных в вопросительные знаки, в апеллирующие к зрительскому интеллекту, а не только к видению, загадки). В короткой статье нет никакой возможности сколько-нибудь полно проанализировать теоретический аспект второй серии «Ивана Грозного». С непростительной беглостью и упростительским игнорированием политической подоплеки фильма я затрону только предпринятое Эйзенштейном соотнесение киноавторефлексивности с идеей жертвоприношения.
К числу отраженных в фильме зрелищ принадлежит, наряду с Пещным действом, сцена, в которой Иван передает Владимиру Старицкому свой статусный наряд и монаршьи регалии, что сопровождается «обнаженной» сменой декораций: опричники вносят в палаты, где происходят пиршество и пляски, царский трон. Этот эпизод восходит, согласно интерпретации Вяч. Вс. Иванова, к изученному Дж. Фрейзером архаическому обряду, по ходу которого раб временно замещал царя, чтобы затем быть убитым (Старицкого по ошибке вместо Ивана закалывает ножом в храме некто Петр Волынец)[1656]. Возвращение к ритуальным истокам социокультуры сопрягается Эйзенштейном с осмыслением кинотруда: Иван, узнавший о готовящемся против него заговоре, режиссирует травестию Старицкого и распоряжается опричниками как актерами, указывая им траекторию движения (из пиршественного зала в церковь). Фоном для всего этого отрезка фильма служат фрески, с которых за случающимся следят глаза инобытийных созерцателей (Христа-Вседержителя, ветхозаветного Бога-Отца, райской птицы). Иван как наблюдатель (пляски опричников и покушения, совершенного Петром Волынцем) спарен с фоном, на котором сакральность, искусство и видение составляют неразрывную целостность. Эйзенштейн придает киноискусству, олицетворенному царем-режиссером, сакрально-ритуальный смысл, включающий в себя жертвоприношение. Выявляя свои предпосылки, кино связывает присущую ему тягу к авторефлексивности с тем самоотрицанием, которым руководствовался архаический коллектив, обрекавший — ради бесперебойного социостаза — на заклание часть собственной плоти. Кино о кино неизбежно жертвенно — такова ключевая во второй серии «Ивана Грозного» мысль Эйзенштейна. Зрелище-в-зрелище не может вести к спасению: Пещное действо, посвященное чудесному избавлению трех христианских отроков от огненной смерти, обрывается, не будучи доведено до оптимистического завершения, потому что его гневный зритель, Иван, не хочет отказаться от истребления боярских родов, чего требует от него митрополит Филипп. Вершащий казни Малюта Скуратов вписан Эйзенштейном в тему киновидения, движущей силой которой является царь. Эйзенштейн дважды дает лицо Малюты крупным планом с одним прищуренным и другим вылезающим из орбиты глазом. Государево око, Малюта, — это и жрец-экзекутор, и монокулярный кинообъектив. Напротив того, становящийся жертвой Старицкий показан в одной из сцен опускающим веки, когда кладет голову на лоно матери, Евфросиньи, вдохновительницы заговора против царя.
Киноискусство позднесталинской поры было эсхатологичным, как и весь тоталитарный «символический порядок», развившийся в сторону «окончательного решения» разных проблем, которые до того стояли перед человеком историческим. В том, что касается киноавторефлексивности, социокультурный финализм мог вести и к дисфункционализации таковой, засвидетельствованной александровской «Весной», и к проникновенному пониманию того обстоятельства, что фильм не способен озеркалить себя без потери, которую Эйзенштейн со свойственным ему радикализмом возвел к началу символической деятельности человека — к ритуальному жертвоприношению[1657].
Игорь Смирнов (Констанц /Санкт-Петербург)«Симфонии» Андрея Белого: К вопросу о генезисе заглавия
«Весною 1902 года вышло в свет произведение неизвестного автора под необычным заглавием „Драматическая симфония“. Впрочем, загадочным прозвучало и самое имя автора Андрей Белый, а издание книги в „декадентском“ „Скорпионе“ довершило в глазах читающей публики характеристику этого странного явления на литературном небосклоне. <…>. „Симфония драматическая“, как первый в литературе и притом сразу удавшийся опыт нового формального творчества, надолго сохранит свою свежесть, и год издания этой первой книги Андрея Белого должен быть отмечен не только как год появления на свет его музы, но и как момент рождения своеобразной поэтической формы», — вспоминал спустя десять лет заклятый друг, а впоследствии заклятый враг Белого Эмилий Метнер[1658].
Как известно, первой по времени создания была не «Драматическая», а «Северная симфония». Андрей Белый приступил к работе в декабре 1899 года и закончил ее в 1900-м, воплотив в этом еще вполне юношеском творении основные тенденции «симфонического» жанра. Но в печати автор действительно дебютировал «Симфонией (2-й, драматической)», которая сразу принесла ему скандальную известность, упроченную выпуском еще трех «Симфоний» (ранее написанной первой и последующими третьей и четвертой)[1659]. За Белым закрепился «патент» на создание нового жанра — «того промежуточного между стихами и прозой вида творчества», который «представляют его симфонии»[1660].