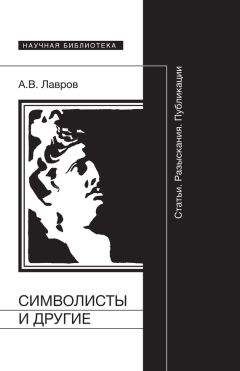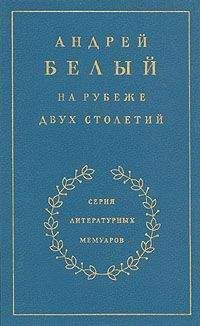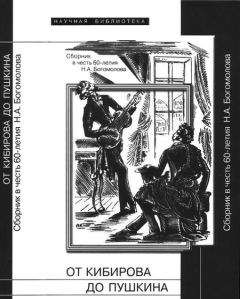Всеволод Багно - На рубеже двух столетий
2.1.2. Даже такой, казалось бы, бескомпромиссно самоутверждающийся фильм, как «Человек с киноаппаратом» (1929), апеллирует к трансцендентной ему силе, когда Дзига Вертов подменяет операторскую камеру пулеметом. Генеральная цель, которую преследовал Вертов, заключалась в создании тотального кинопроизведения, вбирающего в себя ни много ни мало — универсум. Герой картины, оператор, возносится в небесную высь, проникает во все уголки города и спускается в шахту, сходясь в своей омнипрезентности с шаманом, путешествующим в верхний и нижний миры. «Киноглаз» прослеживает человеческую жизнь в целом (труд и отдых; рождение, брак, похороны) и придает ей разные модусы — то трагический (фиксируя несчастный случай на улице), то комический (сопоставляя наложение грима на женское лицо со штукатурными работами). Полностью доступный для наблюдения универсум изобразим как извне, так и изнутри — в нем нет только субъектной и только объектной позиций: мы видим пьяных в пивной, чтобы затем стать на их точку зрения (кадры с шатающимися бутылками). Всевидению соответствует абсолютный троп, совмещающий метафору и метонимию, что подробно и точно проанализировал Ю. Г. Цивьян[1646]. Приведу другой, чем в этом исследовании, пример. Лицо просыпающейся женщины не попадает поначалу в кадр, в котором запечатлеваются ее ноги и спина (partes pro toto). Позднее ее глаза, высвобождающиеся из-под ладоней во время умывания, метафорически монтируются с изображением кинообъектива. В известном смысле дальнейшая съемка урбанного пространства результирует в себе зрительное восприятие этой героини, так что фильм может читаться как архетипическая метафора «город-женщина». Вертов фетишизирует эротическое тело (оно парциально возникает на экране в момент натягивания женщиной чулок), дабы перейти отсюда к показу панкогерентной реальности, в которой отсутствуют взаимоисключительные, обособляющиеся элементы. Тем самым режиссер визуализует концепцию, выдвинутую Вл. Соловьевым, для которого сексуальный фетишизм был первой ступенью к достижению «сизигии», овеществленным предвестием общечеловеческого единения («Смысл любви», 1894). Оператор-шаман — одновременно и христианское око Господне[1647]. Он тот, кто, подобно Христу, призывавшему учеников в Гефсиманском саду к бдению, нарушает сон (женщины, беспризорника, города), вырывает мир из грезы, из иллюзий. Фильм Вертова — тотальность не только пространственного, но и исторического порядка, подразумевающая разные этапы религиозного развития культуры и претендующая сама на то, чтобы сделаться новой верой — в «электрического человека».
Фильм как totum обязан продемонстрировать и себя — свое производство и потребление, техническое оснащение съемок и кинозала, особенности киноязыка (замедление/ускорение в смене кадров, их взаимоналожение и т. п.). Именно в кинокартине тотального размаха авторефлексия выявляет с разительностью, как нигде, кроме того, присущую ей противоречивость. Кино не может охватить универсум, не впустив и себя туда, но верно также обратное: введение одного лишь «диспозитива» в поле рецепции не отвечало бы замыслу мирообъемлющего фильма. Вот почему он, самосоотносясь, с одной стороны, с другой — интертекстуально усваивает сугубо документальную «Москву» (1927) М. А. Кауфмана и И. П. Копалина, перенимая оттуда мотивы стряхивающей сон столицы, беспризорников на ее улицах, спешащих на службу людей и многие иные. В ленте Вертова прячется множество невязок, вытекающих из подточенной киноавторефлексивности (и, нужно добавить, сообщающих фильму ту неоднозначность, которая усиливает его информационную ценность). Так, при всей неприемлемости для режиссера игрового кино (в чем слышатся отзвуки философии Блаженного Августина, осуждавшего лицедейство) герой-оператор в «Человеке с киноаппаратом» не только фактичен — он и исполнитель роли, неизбежно имплицируемой удвоением фильма (он совершает стандартные актерские проходы и проезды; прибегает к трюку, как будто ложась под поезд; демонстрирует умение владеть телом, взбираясь на высокую трубу).
2.2.1. Наряду с критикой смежных медиально-эстетических средств (у Вертова она направляется, как и у Пудовкина, против театра), киноавторефлексивность часто служит спасительным инструментом, вызволяющим творцов фильма из кризисной ситуации. Самый сильный кризис кинематография пережила при прощании с Великим немым. Звуковой фильм пугал своим приходом среди многих прочих и Ю. Н. Тынянова, для которого он являл собой (шизофренически уловленный) «хаос ненужных речей и шумов»[1648]. После того как экран стал слышимым, Тынянов попытался все же адаптироваться к новым аудио-визуальным условиям, сделав вместе с молодым режиссером Александром Файнциммером картину «Поручик Киже» (1934)[1649]. Этот фильм — острейший выпад против как раз возникшего тонального киноискусства. Писарская ошибка, транслируемая устно, инкарнируется при посредстве звучащей речи в «фигуру фикции», как выразился бы Андрей Белый, — в мнимое лицо, существующее как предмет общения персонажей, но не присутствующее среди них въявь. В эпизоде свадьбы Сандуновой и невидимого Киже придворная старуха за пиршественным столом дважды наводит на жениха лорнет, обнаруживает вместо человека пустое кресло и все же произносит: «Генерал, поздравляю!» Оптический прибор, заместитель кинообъектива, беспомощен и побежден артикулированным словом, не имеющим референтного содержания. В церемонии венчания, предшествующего свадебной сцене, на одинокую Сандунову и гостей, собравшихся в церкви, смотрит из треугольника с расходящимися лучами Божий глаз, причем, как пишет М. Б. Ямпольский, ряд кадров здесь снят со стороны алтаря — в перспективе, открывающейся всевидящему трансцендентному наблюдателю и вместе с ним камере[1650]. Киноаппарат, который мог бы быть омнипотентным, таковым не оказывается. Звуковой фильм означает для Тынянова и Файнциммера пародирование Боговоплощения: сакрализованное киновицение сталкивается с бестелесным Логосом, со словом, не конвертированным в плоть (а когда задерживается на телах, то поворачивает их спиной и часто задом к зрителям, сниженно карнавализуя реальность). Но сомнения в возможностях аудио-визуальной медиальности — только одна сторона в высшей степени амбивалентного кинопроизведения. Второй его идейный план — апология кинематографии, которой удается передать на экране даже незримое — то с помощью заместительных предметов (например, деревянной «кобылы», которую секут плетьми взамен подлежащего наказанию поручика), то с помощью жестики актеров (граф Пален трясет руку воображаемому Киже). В акте самоопровержения звуковой фильм нашел в себе — по ту сторону этой негативной авторефлексивности — способность вменять изобразительный характер отсутствию. Конечно, кино и прежде было склонно наглядно представлять фантомное и лишь мыслимое. Однако «Поручик Киже» занимает в этом ряду особое положение: мнимая величина ни разу не обретает здесь собственного лица, хоть какой-то зримой идентичности, опознается по косвенным показателям: absentia-in-praesentia для Тынянова и Файнциммера — более absentia, нежели praesentia[1651].
Еще один случай авторефлексии, благодаря которой кино преодолевало кризис, наметившийся на пороге двух эр в истории фильма, — «Великий утешитель» (1933) Льва Кулешова. Центральный герой картины — Билли Портер, он же О’Генри. Но за писателем проступает сам Кулешов. Портер ассоциирован с «фабрикой грез» и внешне (К. П. Хохлов в его роли загримирован под Чаплина, каким тот был вне съемочной площадки), и по сути дела (новелла о Джеймсе Валентайне, которую писатель создает в тюрьме, бессовестно оптимизирует действительные обстоятельства заключения, при этом текст разыгрывается как фильм-в-фильме). Кулешов, начавший творческую работу под руководством Е. Ф. Бауэра в 1917 году, сводит счеты с кино, заставляя одно из главных действующих лиц фильма, Валентайна, сидеть за решеткой 16 лет — ровно столько, сколько прошло с кинодебюта режиссера до съемок «Великого утешителя». Впрочем, этот срок можно понимать и как едкую политическую аллюзию, подразумевающую советскую власть. Скорее всего, релевантны обе интерпретации: тюрьма — метафора и кино, и большевистской России. Оставив в стороне эзопов язык Кулешова, замечу следующее: в числе заключенных негр (Вейланд Роод) — обитатели тюремной камеры по цвету кожи соответствуют черно-белому киноизображению, отелеснивают его. По принципу большого монтажа «Великий утешитель» сополагает в себе три мира. Первому из них придан статус материала, из которого растет художественное творчество (эта предпосылочная сфера трагична: Валентайн умирает в тюрьме от чахотки; начальство не выполняет обещание досрочно выпустить его на свободу). Второй мир — продукт эстетического воображения (оно ложно: во вставном фильме Валентайн вскрывает сейф, в котором очутился ребенок; восхищаясь благодеянием, сыщик, опознавший бывшего преступника, отказывается от намерения задержать его). Третья реальность рецептивна — ее сосредоточивает в себе читательница рассказов, которые сочиняет Портер. Игра теней на стенах квартиры, где живет эта героиня, не оставляет сомнения в том, что под восприятием литературы Кулешов имел в виду кинозрительское[1652]. Усвоение искусства не дает счастливой развязки, как и динамика его материала: вырванная из литературной, то бишь кинематографической, мечтательности, героиня рецепции убивает ненавистного ей мужчину (чью роль исполняет А. А. Файт, играющий также сыщика, который шел по следу взломщика сейфов в фильме-в-фильме; можно, пожалуй, сказать, что Кулешов — в духе классического авангарда — карает смертью кинокритика, вызывая сочувствие не к профессионалу наблюдения, а к наивному воспринимающему сознанию). Итак, happy end отсутствует во всяком выходе из фикциональности в фактичность — ее ли материала или ее потребления. Сам фильм-в-фильме, в отличие от обрамления, воспроизводит дозвуковое киноискусство (правда, он сопровожден комментирующим события закадровым голосом). Кулешов опредмечивает недавнее прошлое кинематографии, расставаясь с немым киноискусством как с миметически недостоверным. Киноавторефлексия целиком пронизывает картину — и явно во вставном фильме, и скрыто в окружающем это вкрапление контексте, в котором в нее, однако, проникает абсолютное Другое — действительность смерти. Спасение тематизируется во всех трех разделах фильма, но повсюду оно мнимо. Тем не менее «Великий утешитель» — сотериологическое кинопроизведение. Отрекаясь от интенсивной акциональности и прочего характерного наполнения своих прежних фильмов (с их трюковыми съемками, типажным подбором исполнителей, акробатическими элементами в актерской игре и т. п.), Кулешов формирует новый киноязык — идеографический по природе. Минималистски-скудные декорации и монотония костюмов (тюремных курток на заключенных или стандартно-американизированных нарядов у тех, кто на воле) не приковывают к себе внимание зрителей, перенаправляя интерес на абстрактную смысловую конструкцию, которая для этого фильма много важнее, чем подробная фотопередача материального изобилия социофизической среды. Кулешов перформирует, переводит в наглядные образы отвлеченные понятия, составляющие трехшаговую схему (напоминающую гегелевские тезис/антитезис/синтез): от действительного к эстетическому, а от эстетического к его воздействию на реципиента. Эти понятия ad oculos развертываются в некий интеллектуальный «сюжет», у которого есть input и output. Непосредственно запечатлеваемые в фильме действия служат лишь средствами манифестации глубинной схемы. Поэтика «Великого утешителя» позволяет говорить о нем как о концептуальном искусстве avant la lettre, как об опережении исторического хода художественной культуры[1653].