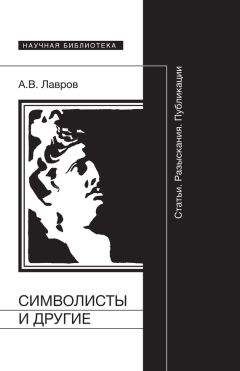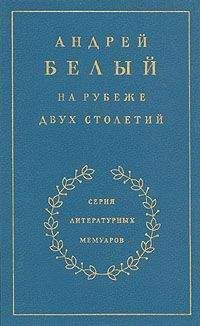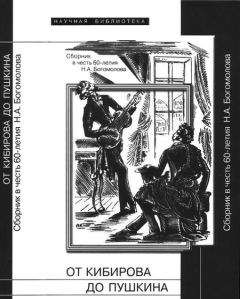Всеволод Багно - На рубеже двух столетий
В этом выражен эстетический принцип творческой свободы, который разделяли Ремизов и его современники в Советской России. Вспомним, что когда Ремизов заканчивает работу над книгой после Второй мировой войны, этих современников уже нет в живых. Как и многие в эмиграции, Ремизов принимает советское гражданство в 1947 году, но на родину не возвращается, а остается за рубежом, где продолжает активную творческую деятельность до своей смерти в 1957 году[1611].
Борьба с властью сыграла свою роль в биографии Белого, о чем Ремизов знал, так как мемуары Белого читали в эмиграции, понимая, что написанное до какой-то степени было продиктовано обстоятельствами. Как заключает Лавров, Белый реагировал на идеологическую обостренность критики, но, несмотря на это, он «не сдавал собственных позиций, как считали многие (в частности, в эмигрантской среде), он пытался, маневрируя, самоопределиться в неблагоприятных условиях»[1612]. Вспомним описания авторства в очерке Белого «Почему я стал символистом»: «я жил внутри многогранника» и «меня занимает проблема со-существования многих путей…», а также образ ножниц в понимании самого автора и «других». В книге «Петербургский буерак» Ремизов дает краткий портрет Андрея Белого: «Гениальный, единственный, весь растерзанный: между антропософией, Заратустрой и Гоголем…»[1613]. Этот портрет соответствует образу творчества в очерке Белого и двадцать лет спустя, в ремизовском «Чинг-Чанге». Он также гармонирует с мифом Белого о смерти поэта-пророка, созданным в эмиграции[1614].
Как представители дореволюционного русского модернизма и его продолжатели, Белый и Ремизов писали для потомков. Это осознавали некоторые из их современников на родине и в эмиграции. В рецензии на роман Белого «Москва», который вызвал острую негативную реакцию советской критики, в 1926 году Б. Эйхенбаум пишет: «Почему же не сказать: есть литература для читателя и есть литература для литературы?»[1615] Он уверен, что «роман А. Белого — событие огромной литературной важности, которое можно приравнять только к какому-нибудь научному открытию <…>. Роман А. Белого обращен к литературе — и этим он сразу страшно повышает наш сегодняшний уровень». На вопрос, должна ли литература отвечать на «социальный заказ», Эйхенбаум отвечает: «Или у литературы, как и у всякого другого искусства, есть свои исторические заказы, которые до читателя „не доходят“ и не могут „дойти“?»[1616] В этом же году в журнале «Благонамеренный» Цветаева печатает статью «Поэт о критике», где она говорит о непонимании критики по отношению к ней и Ремизову, заявляя, что справедливая статья о них «еще будет написана. Не мной — так другим. Не сейчас, так через сто лет»[1617].
Связь с европейским контекстом, в котором русская культура продолжает играть свою роль с начала века, имеет большое значение для наследия писателей. Так, в «Учителе музыки» Ремизов выходит за рамки отечественной тематики, намечая параллели своих литературных экспериментов с творчеством крупнейших представителей европейского модернизма — Джеймса Джойса и Марселя Пруста. В Советской России оно намечено в некрологе Белого, подписанном Б. Пастернаком, Б. Пильняком и Г. Санниковым и опубликованном в газете «Известия» (1934. № 8, 9 января), где подчеркнуто первенство новаций Белого: «Перекликаясь с Марселем Прустом в мастерстве воссоздания мира первоначальных ощущений, А. Белый делал это полнее и совершеннее. Джеймс Джойс для современной европейской литературы является вершиной мастерства. Надо помнить, что Джеймс Джойс — ученик Андрея Белого»[1618].
Творческий путь Белого и Ремизова показывает, что они продолжают «героические» поиски «философского камня» жизнетворчества как залога искусства и сохраняют память неразрывно связанного с ним «потерянного времени» их общего дореволюционного прошлого. Действительно, оба писателя были забыты современниками на долгие годы. Как бы зная и ожидая этого, они оставили ценное наследие для потомства.
Грета Н. Слобин (Мидлтаун, Коннектикут)Киноавторефлексивность
(на материале советских фильмов 1920–1940-х гг.)[*]
1.0. Ищущим отражение своего производства в самой природе вещей кино стало до того, как превратилось в искусство. Уже одно из «кинетоскопических» изделий Эдисона, «The Barber Shop» (1894–1896), демонстрируя труд парикмахера, знакомило зрителей с киногенной реальностью, в которой действие направлено на то, чтобы воссоздать облик человека (выбриваемого клиента), изменившийся по ходу времени. Позднее парикмахер сделается излюбленной фигурой игрового кинематографа. Фильму о фильме предшествовал и сопровождал его развитие фильм о реальности, подобной фильму. Оба типа авторефлексивности обнаруживаются и в традиционных искусствах. Свой жизненный аналог живопись обретает, изображая зеркала, театральное зрелище — открывая доступ на сцену травестиям, литература — включая в повествование дневники и переписку героев. Точно также этим искусствам свойственно опредмечивать себя, будь то мотив «художник и его модель» в живописи, хоровое комментирование событий, происходящих в античной трагедии, или метафикциональные романы. Спрашивается: в чем заключено своеобразие киноавторефлексивности? Взгляды на нее в научной литературе весьма разнообразны — ниже я ограничусь обсуждением только некоторых из них.
1.1.1. Психоаналитический подход к авторефлексивному фильму был подготовлен в статьях Жана-Луи Бодри[1620], который вьщвинул в центр своих рассуждений воспринимающего субъекта. Реципиент киноискусства, вынужденный отождествлять себя со съемочным аппаратом, теряет свою, от всего отличающуюся, персональную позицию, принимает изображенное на экране за непосредственно увиденный, а не репрезентируемый мир, погружается как бы в онейрическое состояние и тем самым дает выход подавленной бессознательной энергии, регрессируя к так называемому «первичному нарциссизму». Бодри не останавливался специально на киноавторефлексивности; вывод о ней из тех же, что у него, посылок предпринял Кристиан Метц[1621]. Оба исследователя исходят из представления о кинозрителе как о «трансцендентальном субъекте», которого заставляет работать с самим собой столкновение с техномедиальностью, с объектами, не предполагающими, что он вживе находится среди них. Фильмы-в-фильмах и родственные им кинематографические явления суть ответ на ситуацию, в которой оказывается кинореципиент. Модель Метца несколько отличается от идей, высказанных Бодри, тем, что привносит в психоанализ семиотическую ориентацию. Означаемые (под ними понимаются реалии) не даны посетителю кинозрелищ, отчего им владеет особо сильное желание узнать, что стоит за информацией, посылаемой ему с экрана, каков процесс ее порождения, как делается фильм.
Теоретизированию такого рода следует предъявить по меньшей мере два упрека. Один из них относится до всей рецептивной эстетики, вошедшей в (не слишком долгую) моду в 1960–1970-х годах. Нельзя ставить телегу впереди лошади, переносить ответственность за эстетический продукт с производителя на потребителя. Что касается кинематографии, то она, если принять во внимание приведенный «кинетоскопический» пример, заинтересовалась авторефлексивностью, обращаясь к адресатам, а не потакая им. Спору нет, авторы фильма учитывают реакцию тех, кому они предназначают свое создание. Но сверх того, они стремятся воздействовать на публику, ошеломить ее[1622], концепировать реципиентов. Вторая причина, по которой приходится отклонить теорию Бодри — Метца, состоит в том, что выстроенный ими образ кинореципиента недостаточно специфичен. Трансцендентальный акт составляет условие sine qua non для усвоения любой эстетической деятельности, коль скоро она нуждается в толковании. Означаемые как реалии отсутствуют во всяком фикциональном универсуме, не только в кинематографическом. Восстановление объектов, о которых сообщает художественный текст, к какой бы отрасли искусства он ни принадлежал, требует от нас нахождения таковых в нашем воображении, внутри нас, то есть превращения субъектного в автообъектное, что и конституирует трансцендентальность. Не удивительно, что одно из позднейших исследований по киноавторефлексивности Метц подытожил словами об общеэстетической природе такой конструкции, как mise en abyme[1623].
1.1.2. В противоположность Бодри и Метцу (и подчеркивая несогласие с ними) Роберт Филип Стэм сосредоточился на историко-культурной функции фильмов, тематизирующих себя и порождение-бытование кинопроизведений[1624]. Назначение этого типа лент, по Стэму, — подрыв иллюзионистского эффекта, вызываемого киномедиальностью. Следует, однако, признать правоту Кристофера Эймса, утверждающего в книге о Голливуде как сюжетной основе ряда американских фильмов 1930–1990-х годов, что самосоотнесенное кино демистифицирует свой предмет мистификаторским способом, мнимо помещая нас по эту сторону съемочного аппарата[1625]. Тематизируя себя, кино свободно в выборе самооценки, которая бывает и отрицательной, и положительной. Увлеченный бахтинской теорией карнавала, Стэм усмотрел в киноавторефлексивности прямое продолжение романного пародирования литературы, самокритику искусства. Под таким углом зрения приходится забыть о многочисленных случаях тавтологической авторефлексивности. Например, в «Новой Москве» (1939) Александра Медведкина передвижка зданий выступает и в виде фактической реальности, и как «живая модель» — как динамичный макет перепланировки столичных улиц, который смастерили молодые энтузиасты из Сибири[1626]. Аналогично: обязательная обрамленность киноизображения сплошь и рядом повторяется в показе героев фильма в проемах окон и дверей, что тщательно проанализировал Метц[1627]. Субверсивное кинотворчество призвано, согласно Стэму, доставлять «наслаждение» тем, кто не участвует в производстве фильма, — зрителям. Означает ли этот тезис, что потребители картин, рассчитанных прежде всего на то, чтобы укрепить доверие к экрану, испытывают неудовольствие от увиденного?