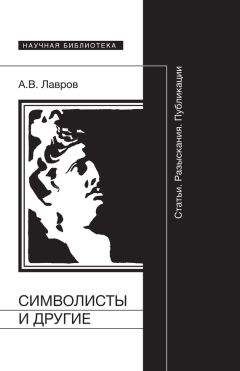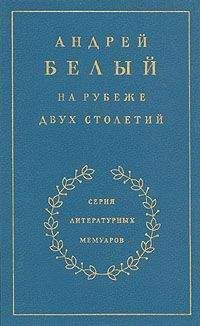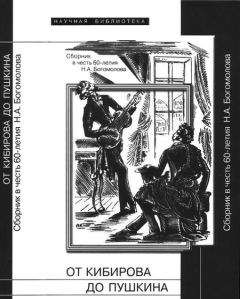Всеволод Багно - На рубеже двух столетий
Полемика о прозе продолжается в новом парижском журнале «Числа». В 4-м номере журнала (1931) напечатан репортаж о выступлении Юрия Софиева на вечере Союза молодых поэтов, где он приветствует направление журнала, особенно «возврат с парнасских высот» во имя массового читателя. Репортаж подтверждает, что «произошел раскол, разделивший молодых писателей на два лагеря», — для одних важно «ремесло», а для других «какая-то последняя правда»[1594]. Дискуссия продолжается в 5-м номере, где напечатан рассказ Ремизова «Индустриальная подкова». Здесь особое внимание уделено проблеме «возврата с парнасских высот». В ответ на анкету «Что вы думаете о своем творчестве?» Ремизов кратко отвечает: «Чего я буду говорить о моем творчестве, когда читатели „Чисел“ ничего не слыхали о моих книгах»[1595]. Редакция продолжает дискуссию «Для кого писать» и публикует заметки М. Осоргина из «Новой газеты» этого года, где он выражает мнение, что «уважение к правам читателя <…> требует от писателя быть как можно более понятным и <…> удобочитаемым»[1596]. Осоргин критикует Ремизова за то, что он пишет «для себя» и «непростотой» своего стиля утруждает читателя.
Резкий ответ Ремизова четко определяет его авторскую позицию: «…для писателя, когда он пишет, нет ни читателя, ни расчета — пишется не для кого и не для чего, а только для самого того, что пишется и не может быть не написано»[1597]. Обращаясь к редактору YMCA-Press Б. П. Вышеславцеву Ремизов жалуется, что редакции русских журналов делают все, чтобы «еще больше снизить требования читателя», в результате чего «я попал в разряд каких-то тяжких преступников, которые не имеют не только права голоса, НО И ПРАВА СУЩЕСТВОВАНИЯ»[1598]. Заметим мотив смерти, преступления и наказания в риторике обоих писателей в ответ на критику. Как это ни странно, проблема «удобочитаемости» преследует и Ремизова, и Белого — писателей, ответственных за языковую революцию в литературе.
В произведении «Учитель музыки: каторжная идиллия», начатом в 1930-е годы, Ремизов говорит о писательской жизни в эмиграции. По определению Ремизова, это его «бытовая автобиография». Оксюморон названия объясняется парадоксом «идиллии» творческого воображения и «бедности» окружающей жизни, где книга не в почете. Но это прежде всего литературная автобиография писателя, где он упоминает своих предшественников в русской литературе и современников — в европейской и создает миф своего творчества в широком контексте мировой культуры.
В эпилоге этой книги зрелых размышлений о ремесле писателя Ремизов обращается к одной из самых острых метафор жизнетворчества, которая как бы совершает «слияние жизни и творчества воедино», о чем писал Ходасевич. Эпилог с вымышленным псевдокитайским названием «Чинг-Чанг» предваряется эпиграфом «Китайская казнь: осужденного разрезают на тысячу мелких кусков»[1599]. Настоящее название страшного древнего истязания — «Линг чи». Китайский император официально отменил это наказание в 1905 году, но память о нем сохранилась в выражении, которое используется в Китае как метафора наказания вообще[1600].
Перед нами стоит вопрос-загадка: почему Ремизов прибегает к этому эпиграфу для описания писательского творчества? Эта резкая метафора появляется в размышлениях о литературе и литературности, где автор намечает связь с культурой Серебряного века. Образ «варварского» китайского наказания, символа императорской власти, используется в тексте как прием «реализации метафоры» писательского творчества вообще. Как и у Белого, здесь главный мэтр — Гоголь. В послесловии Ремизов приводит в пример общеизвестную историю-трагедию Гоголя, связанную с написанием второй части «Мертвых душ», поясняя ее следующим образом: «…а так как „Мертвые души“ — дело жизни Гоголя, то ему ничего не осталось, как обречь себя на смерть»[1601]. Здесь явно, что идентификация писателя с его произведением — это дело жизни и смерти.
Заметим перебой интонаций послесловия, пронизанного ремизовской остроумной игрой, центром которой становится само понятие авторства. Так например, Ремизов приводит в пример вымышленное произведение своего alter ego, А. А. Корнетова, «Боровский самоучитель», созданное с помощью советчиков по имени Куковников и Судок, которые «оба вышли на свет, как результат „Чинг-Чанга“»[1602]. Как он пишет, все герои идиллии — «мои эманации, расчленение моей личности на несколько отражений моего духа»[1603]. В то же время, автор заявляет: «…при всей моей информаторской страсти — Судок — я и не я». И если в первом варианте «Чинг-Чанга» Ремизов просил не путать его с Корнетовым, героем повести, то в окончательной редакции он прямо заявляет, что Корнетов «это я сам»[1604]. Четко сформулированное эстетическое credo Ремизова поясняет принцип биографичности и творческой свободы: «И мне надо было какой-то „дух“, какой-то заключительный акт „вдохнул жизнь“, а без этого ни одна из моих тысячных частей не зашевелилась бы и не отозвалась. И этот дух — я, моя вера и мои пожелания»[1605].
Графическая метафора страшного китайского наказания Ремизова повторяется как рефрен, и становится ясно, что ремизовский «Чинг-Чанг» существенным образом отличается от китайского «Линг чи». Ключ к китайскому эпиграфу находится в последней книге воспоминаний Ремизова «Петербургский буерак». В главе «Дягилевские вечера в Париже» он говорит о постановке «Свадебки» Стравинского и о необыкновенном успехе фестиваля «Русская весна» в Париже в двадцатые годы. Воздействие этих представлений на Ремизова особенно важно в контексте эмиграции: «После Дягилевских вечеров громко хочу говорить по-русски»[1606].
Но самое сильное впечатление произвел на Ремизова «Соловей» Стравинского. Дебют новой версии «балета с пением» «Le chant du rossignol» состоялся в Париже в феврале 1920 года, пять лет спустя после первого представления. После одного из представлений Ремизов встретил знакомых «мирискусников» — Бенуа, Бакста, Сомова, Нувеля, которым он повторял одну фразу: «Стравинский — китайцы — жалко»[1607]. Эта веская лаконичная реакция Ремизова полисемантична. Стараясь воссоздать историческую память русской культуры Серебряного века, Ремизов подчеркивает роль таких современников, как Бенуа и Дягилев, новаторов русского искусства и его представителей за рубежом, которые принесли ему европейскую славу еще до революции и продолжили свою деятельность в 1920–1930-е годы в Европе. Парижская встреча Ремизова с «мирискусниками» восстанавливает нить связи с богатым дореволюционным прошлым. «Чинг-Чанг» — это прежде всего пример ориентализма, или «chinoiserie», который был в моде в России в начале века, о чем свидетельствуют известные главы в романе Белого «Петербург», а также «Взвихренная Русь» Ремизова, где Восток — это не угроза, а «источник культурных ценностей»[1608]. С этой модой связан и «Rossignol» Стравинского, над которым композитор работал с 1908 года.
Более того, как пишет Р. Тарускин в обширном исследовании «Стравинский и русские традиции», «Rossignol», поставленный по сказке Андерсена, которого обожали в России, «был самый естественный выбор для оперы; как миф Орфея эта сказка воспевает власть искусства, и особенно музыки <…>. Это также притча о „неограниченном“ художественном вдохновении»[1609]. Вспомним сказку Андерсена об императоре, пожелавшем, чтобы замечательный соловей, которым заслушивались даже путешественники из-за границы, пел во дворце. Восхищенный его пением император приказал, чтобы соловей остался жить во дворце, а не на свободе. Через какое-то время пришел подарок от императора Японии — это был украшенный драгоценностями механический соловей. Тогда настоящий соловей улетел обратно в лес, но вскоре оказалось, что механический соловей сломался. Через несколько лет настоящий соловей появляется во дворце, чтобы спасти императора от смерти, которая не может устоять перед соловьиным пением. Эта драматическая сцена произвела особое впечатление на Ремизова, и его описание передает синкретизм экзотической музыкальной композиции, ритма и хореографии балета: «…страшные китайские мужики — и как начали друг друга коленить и влеж и встой… и светлячок-соловей, его вскруг подсоловьиную трель, свист и стукотню перед знойной, вприпрыжку танцующей смертью…»[1610]. Соловей продолжает петь для благодарного императора по вечерам с условием, что он останется жить в лесу, на воле.
Сказка Андерсена противопоставляет живого и механического соловья, а также говорит о свободе, необходимой для настоящего искусства, которое неподвластно императору и смерти. Неудивительно, что эта тема приобретает особый пафос в размышлениях писателя о судьбе его собратьев на родине в 1920–1930-е годы. Что же делает Ремизов? Используя старый риторический прием, с помощью которого он прямое значение китайского эпиграфа в тексте заменяет переносным, Ремизов одновременно провозглашает первенство искусства и отражает тот исторический факт, что в Советской России власть враждует с писателями. Заметим, что страшная императорская казнь как символ власти в самом тексте, как и в сказке Андерсена, роли не играет. Эпиграф действует в переносном смысле, и в тексте казнь становится метафорой творческих мук писателя, когда он следует своей воле и законам искусства.