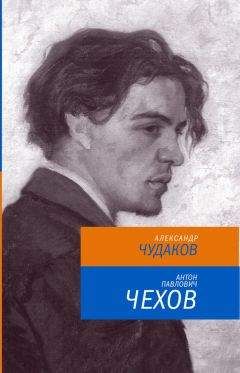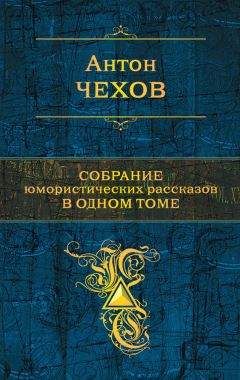Елена Гушанская - За честь культуры фехтовальщик
Образы мужей героини – не просто ярко выраженные типы, они лубочны. Для каждого психофизического типа выбраны самые характерные особенности. Кукин – истеричный меланхолик – «мал ростом, тощ, с желтым лицом, с зачесанными височками, говорил жидким тенорком, и когда говорил, то кривил рот; на лице у него всегда было написано отчаянье». Пустовалов – фигура, противоположно окрашенная: жизнерадостный сангвиник, человек, обреченный на преуспеяние, «в соломенной шляпе и в белом жилете с золотой цепочкой и походил больше на помещика, чем на торговца».
Любовь героини и ее горе по смерти мужей неуклонно возрастают с каждым сюжетным шагом. К Кукину она была приветлива, показывала сквозь занавески «только лицо и одно плечо и ласково улыбалась». Пустовалова Оленька «полюбила, так полюбила, что всю ночь не спала и горела, как в лихорадке, а утром послала за пожилой дамой» – за свахой.
С Кукиным Оленька прожила меньше года: осень и зиму, он умер на Пасху, под Страстной понедельник. С Пустоваловым они провели в мире и согласии шесть лет. По Кукину она горевала три месяца, по смерти Пустовалова только спустя полгода сняла плерезы и в знак скорби навсегда отказалась от шляпки и перчаток.
Причитания героини по мужьям представляют собой как бы единый плач, продолжающийся по Пустовалову на том самом месте, где он оборвался по Кукину: «Голубчик мой! – зарыдала Оленька. – Ваничка, мой миленький, голубчик мой! Зачем же я с тобой повстречалася? Зачем я тебя узнала и полюбила? На кого ты покинул свою бедную Оленьку, бедную несчастную?..» И более шести лет спустя: «На кого же ты меня покинул, голубчик мой? Как же я теперь буду жить без тебя, горькая я и несчастная? Люди добрые, пожалейте меня, сироту круглую…» Оба эти плача носят отчетливо надиндивидуальный фольклорный характер.
Истины, которые Душечка постигает с каждым новым объектом своей любви, становятся все «истиннее».
Озвученные Душечкой сентенции антрепренера носят весьма относительный характер: она «говорила своим знакомым, что самое замечательное, самое важное и нужное на свете – это театр и что получить истинное наслаждение и стать образованным и гуманным можно только в театре». Она считала, что «Фауст наизнанку» или «Орфей в аду», которыми пренебрегает публика, подлинные произведения искусства, а не «какая-нибудь пошлость», хотя «Орфей в аду» и «Фауст наизнанку» всего-навсего оперетки невысокого пошиба.
В роли антрепренерши Душечка вела себя не самым лучшим образом: «на репетициях вмешивалась, поправляла актеров, смотрела за поведением музыкантов», да и испытать ей пришлось более расстройств, чем радости: когда в местной газете неодобрительно отзывались о театре, то она плакала и потом ходила в редакцию объясняться». Актеры, которым она давала потихоньку от мужа взаймы, «случалось ее обманывали».
Истины управляющего лесным складом были, так сказать, более широкого хождения: «Всякая вещь имеет свой порядок, и если кто-то из наших ближних умирает, то, значит, так богу угодно, и в этом случае мы должны себя помнить и переносить с покорностью». Истины управляющего были непреложнее, объективнее: «лес с каждым годом дорожает на двадцать процентов».
Теперь уже Оленька не объяснялась в редакции, не тревожилась о мнении публики, не всхлипывала тайком, а олицетворяла собой правильный образ жизни, житейское преуспеяние, достаток и покой: вместе ходили и в баню, и в церковь, «шли рядышком, с умиленными лицами, от обоих хорошо пахло, <…> во дворе и за воротами на улице вкусно пахло борщом и жареной бараниной или уткой, а в постные дни – рыбой, и мимо ворот нельзя было пройти без того, чтобы не захотелось есть. В конторе всегда кипел самовар, и покупателей угощали чаем с бубликами».
Гармония семейной жизни и доверие к ней были так велики, что визиты квартиранта в отсутствие мужа не смущали ни Оленьку, ни ее супруга, ни самого ветеринара, несложившуюся семейную жизнь которого и его оставленного сыночка супруги обсуждали так горячо и заинтересованно, что «оба становились перед образами, клали земные поклоны и молились, чтобы бог послал им детей…».
Третья история любви, как и полагается в фольклорной, мифопоэтической традиции, стала для Душечки роковой. У Чехова сводятся воедино оба сказочных значения третьего сюжетного шага. Душечка здесь, в любви к ветеринару Смирнину, – получает одновременно и наказание, и воздаяние: ветеринар бросает Душечку, но он же дарит ей ребенка, которого она может любить такой любовью, о которой она «всю жизнь мечтала», причем ребенка героиня обретает сказочным, мифопоэтическим образом – «через дарение».
Третья любовь Душечки греховна и наказуема и вместе с тем – свята и безгрешна. Любовь без брака не освященная церковью, невозможна, но: «Другую бы осудили за это, но об Оленьке никто не мог подумать дурно». Почему? Да потому, что «все было так понятно в ее жизни». А «понятно» это не только «ясно» («ясно как божий день»), но и, через смежный синонимический ряд, согласно словарю, – «натурально», т. е. «естественно».
В третий раз Душечка, нарушившая закон божий и человеческий, потеряла все – осталась у разбитого корыта. Она «выпала» из социокультурной колоды городка. Она ни с кем не могла поделиться открывшимися ей новыми истинами. Только однажды (!) «встретясь на почте с одной знакомой дамой, она сказала: „У нас в городе нет правильного ветеринарного надзора и от этого много болезней. То и дело слышишь, люди заболевают от молока, заражаются от лошадей и коров. О здоровье домашних животных в сущности надо заботиться так же, как о здоровье людей“». Эта истина не менее, если не более, справедлива и объективна, чем суждения о тарифах.
Замечательно, что из одиннадцати поправок, сделанных Чеховым при подготовке рассказа к собранию сочинений, – поправок, ювелирных, мельчайших, – две относятся именно к этой единственной Душечкиной реплике: «У нас в городе нет правильного ветеринарного надзора и поэтому много болезней – и от этого много болезней», «Часто заболевают от молока, заражаются от лошадей и коров – То и дело слышишь, люди заболевают от молока и заражаются от лошадей и коров».
Однако ветеринар не только запретил ей участвовать в своей жизни, но и покинул ее, исчезнув немотивированно, не удостоив объяснением: «полк перевели куда-то очень далеко и навсегда, чуть ли не в Сибирь». А в русской литературе в «Сибирь» – все равно что в царство Аида. Ветеринар не дал Душечке возможности «овеществить», ритуализовать ее горе, оставив ее горевать вечно.
Кара, постигшая Душечку, равносильна смерти. Не имея точки приложения своей любви, она перестает жить. Чехов строит описание этого периода ее жизни, как притчу с многочисленными лексическими повторами, с несвойственным, казалось бы, этому повествованию отчаянием и трагическим накалом переживаний: «Она видела кругом себя предметы и понимала все, что происходило кругом, но ни о чем не могла составить мнения и не знала, о чем говорить <…>. При Кукине и Пустовалове и потом при ветеринаре Оленька могла объяснить все и сказала бы свое мнение о чем угодно, теперь же и среди мыслей и в сердце у нее такая же пустота, как на дворе. <…>
Повеет ли весной, донесет ли ветер звон соборных колоколов, и вдруг нахлынут воспоминания о прошлом, сладко сожмется сердце, и из глаз польются обильные слезы, но это только на минуту, а там опять пустота и неизвестно, зачем живешь».
И наконец, пройдя через умирание, Душечка возвращается к жизни. Ее счастье – счастье преображения и счастье достижения абсолютной полноты жизни: «довольная покойная любвеобильная; ее лицо, помолодевшее за последние полгода, улыбается, сияет; встречные, глядя на нее, испытывают удовольствие и говорят ей: „Здравствуйте, душечка, Ольга Семеновна!“».
Именно из этой части рассказа Л. Толстой убрал особенно много штрихов, переводящих переживания Душечки в небытовой, трагический план: «а потом, когда наступала ночь, шла спать и видела во сне свой пустой двор», «А как это ужасно, не иметь никакого мнения! Видишь, например, как стоит бутылка или идет дождь… какой в них смысл, сказать не можешь и даже за тысячу рублей ничего не сказал бы». «И так жутко, и так горько, как будто объелась полыни», «и на душе у нее по-прежнему и пусто, и нудно, и отдает полынью» и т. д.
По отъезде ветеринара время в рассказе приобретает иное качество – мифологическую протяженность. Прошло не более трех-четырех, в крайнем случае пяти, лет с тех пор, как Душечка с мужем молились о прибавлении семейства. Уже тогда малыш ветеринара был «мальчишечкой», который «небось все понимает».
Но изменения, произошедшие за эти годы, отражают не смену лет, а смену эпох. «Город мало-помалу расширялся во все стороны; Цыганскую слободку уже называли улицей, и там, где были сад „Тиволи“ и лесные склады (они находились в одной точке душечкиного пространства! – Е. Г.), выросли уже дома, и образовался ряд переулков». «Дом у Оленьки потемнел, крыша заржавела, сарай покосился…» – на все это нужен не один десяток лет. В доме появились сугубо литературные, мифические персонажи – кошка Брыска, забредшая прямиком от старосветских помещиков, и кухарка Мавра из «Домика в Коломне».