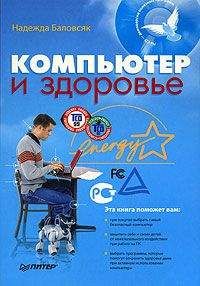Герхард Менцель - Годы в Вольфенбюттеле. Жизнь Жан-Поля Фридриха Рихтера
— Вы сделали все необходимое и дальше будете вести дела столь же разумно. Пусть вам послужит утешением, что во всех этих несчастьях нет вашей вины. Будьте веселы, будьте здоровы. Сохраните для ваших детей то, что удастся сохранить, уступите без отчаяния то, что придется уступить, а все остальное спокойно предоставьте времени. Я со своей стороны буду стараться укрепить мое материальное положение — в моем усердии можете не сомневаться — и тогда, любовь моя, вы дадите мне слово и не станете отговорками лишать меня надежды. Коль вы готовы скорее жить в самом глухом захолустье на хлебе и воде, чем пребывать в вашем теперешнем смятении, то Вольфенбюттель — именно такое захолустье, а воды и хлеба, да, глядишь, и с маслом, нам уж как-нибудь хватит…
В тот же вечер в полном одиночестве при свечах они отметили бокалом вина свою помолвку.
— Как я была бы счастлива, если бы оказалась уже в вашем Вольфенбюттеле. И если бы я смогла, наконец, постоянно, изо дня в день, быть с вами!
Не желая, чтобы ему напоминали о его потерпевших крах начинаниях на благо «просвещенной» нации, Лессинг наносил в Гамбурге мало визитов. Он также хорошо помнил те горькие строки, которые посвятил гамбуржцам, своим гамбуржцам, от которых он — при том, что они жили в вольном ганзейском городе — ожидал по меньшей мере бюргерской добродетели; ибо чего стоят бюргерские честь и достоинство в немецких королевствах, графствах, герцогствах — это он знал достаточно хорошо.
Но если сам Лессинг избегал посещать знакомых, то его все чаще отыскивали в доме Евы. Весть о его пребывании распространилась чрезвычайно быстро, особенно среди приятельниц Евы. Чаще других приходили монетчик Кнорре и его жена. Этого гамбургского монетчика в кругу друзей Евы издавна именовали кузеном, хотя точнее было бы звать его кумом; ибо так же, как Лессинг над Фрицем, Кнорре взял опекунство над Энгельбертом, не будучи в кровном родстве с семьей.
Кузен был человек противоречивый: смешливый, но обидчивый; всех высмеивающий, однако пекущийся о собственном достоинстве: скуповатый — и при этом азартно участвующий во всех лотереях; часто злопамятный, еще чаще эгоистичный — и тем не менее способный на неожиданное примирение и даже великодушную помощь. У него часто менялись привязанности и антипатии. Только Ева и Лессинг умели поддерживать с ним ровные отношения.
Когда Лессинг объявил, что теперь он хотел бы еще разок послушать, как бушует его «достопочтенный Гёце», — ибо они были знакомы и относились друг к другу с уважением, — а Ева возразила, она-де очень этим удивлена, поскольку Гёце столь неблаговидно обошелся со своим собратом, «достопочтенным Альберти», и когда Лессинг, в свою очередь, ответил, что эти петухи из собора Святой Катарины вечно так верещат и дерутся, что только перья летят, — Кнорре тут же взял шляпу и заявил:
— Я иду с вами! — И с хитрым видом добавил: — С тех пор, как у нас в Гамбурге нет больше театра, я редко отказываю себе в удовольствии послушать, как мечет громы и молнии этот гамбургский Абрахам à Санта Клара. И посмотреть тоже — это, скажу я вам, зрелище. Каждый день — напоминания о чистилище, каждый день — проклятия и призывы к покаянию. Как, наверное, должно злить такого человека, что он не может предать проклятию весь мир, что магистрат нашего города Гамбурга, живущего мировой торговлей, запретил ему деление на козлиц и агнцев, этих «Спаси народ Твой…» — с одной стороны, и «Пролей гнев Твой на народы, которые не знают Тебя, и на царства, которые имени Твоего не призывают» — с другой… Меня лишь удивляет, что такой начитанный человек, как Гёце, никак не хочет понять, что он, со своими злобными речами и своими яростными, нередко доморощенными псалмами, опоздал, по крайней мере, на несколько столетий…
— Таков удел всех эпигонов, дорогой кузен!
Перед входом в собор Святой Катарины босоногие и не слишком умытые мальчишки-нищие продавали различные полемические сочинения обер-пастора Гёце. Этот миляга, собственно говоря, никогда не отличался разборчивостью в средствах, но здесь — что было особенно забавно — все торговцы брошюрами старались переорать друг друга, и притом каждый делал это во славу его, Гёце, имени.
— Трактат против дворцов и театра! — выкрикнул один из мальчишек явно заученный текст и, стараясь привлечь к себе внимание, принялся энергично размахивать своей листовкой. Но Лессинг прошел мимо. Пасквиль был не нов. Он уже читал его, и ему там тоже, как любили выражаться в его родной Саксонии, достался «жирный кус», но он не чувствовал себя уязвленным. Обер-пастор считал сцену «кафедрой дьявола». Что можно было на это возразить? Кто, как не «старейшина» всех гамбургских священников — в том, что он им больше уже не являлся, ему следовало винить не Альберти, а себя самого, — так вот, кто другой, как не достопочтенный обер-пастор Гёце, мог знать, имеет ли дьявол в Гамбурге кафедру, кто ему ее предоставил и как он ее использовал…
— Самый новый, только что из типографии, трактат о 6-м стихе 79-го псалма покаяния! Сочинения обер-пастора Гёце против пастора собора Святой Катарины Альберти! — проорал в самое ухо Лессингу здоровенный парень, стоявший по правую руку от входа, и сунул памфлет ему под нос.
«Истинное толкование текстов Асафа» — гласило название. Лессинг протянул затребованный шиллинг и, уже держа в руках несброшюрованные оттиски, рассмеялся:
— Что же ты продал мне в придачу к этому пасквилю еще и отпечаток своего большого пальца!
Конечно, они опоздали. Гёце объявил, что собирается произнести проповедь на текст: «Горе тому человеку, через которого соблазн приходит!» Ожидалось, что он станет перемывать грязное белье, и посему в соборе Святой Катарины не было ни одного свободного места.
Лессинг сидел за колонной, откуда ему была видна лишь половина кафедры. Однако когда Гёце начал свое воскресное наставление, но заговорил не об ожесточенном споре с пастором Альберти, как все того ожидали, а помянул пятнадцатую годовщину того дня, когда Лиссабон «был стерт с лица земли и уничтожен самым ужасным землетрясением, какое только помнило человечество», Лессинг вытянул шею.
Гёце стоял, словно отлитый из бронзы. Его облачение ниспадало тяжелыми вертикальными складками. На нем был старомодный, туго завитой парик, спускавшийся на плечи, а шею стягивал смахивающий на мельничный жернов, традиционный, в бесчисленных складках плоеный воротник, какие, вероятно, носили лет сто назад. Суровая архаичная фигура, лицо без тени улыбки — вот что было в нем самым примечательным. Обращаясь к своим прихожанам, Гёце не воздевал руки, как другие священники, а потрясал сжатыми кулаками. Средневековый проповедник покаяния!
Впрочем, прошло совсем немного времени, и порочный Лиссабон сменился таким же Гамбургом. Тут Гёце прорвало, тут он заговорил каленым языком, и слова его были подобны огню и мечу, они жгли каждое сердце, пронзали каждую душу, и если кто из сидящих под этими высокими гулкими сводами был малость боязлив, того такая мощь красноречия пробирала до печенок.
— О Гамбург! — выкрикивал Гёце, — и для тебя у Господа найдутся плети, вражеские полчища и геенна огненная, землетрясения, наводнения и тысяча других средств, дабы покарать тебя! Дабы погубить тебя! Дабы уничтожить тебя, превратить в Адму и Цевоим…
Затем он запел сам и заставил прихожан петь покаянный псалом — конечно же, из той пресловутой древней гамбургской книги псалмов, которая вызывала столько негодования и возмущения, но которой он, несмотря ни на что, исступленно придерживался. «Будь ад тебе награда!» — затянул он.
Будь ад тебе награда
За жизнь средь лжи и смрада!
Спознавшись с сатаной,
Ты, извиваясь в корчах,
Захлебываясь желчью,
Жрать будешь кал и пить мочу и гной!
Тут уж все почувствовали крайнее омерзение: одни — к греху, неизбежно ведущему в преисподнюю, другие к стихам, которые все еще продолжали звучать.
Когда же всех наконец охватили должные смятение и ужас, Гёце воздел к небу обе руки и выкрикнул напоследок свое «Аминь! Аминь! Аминь!», энергично взмахнув при этом сжатыми кулаками. Помощник органиста нажал на педали. Кантор включил нижний регистр своего органа, так что басовые раскаты, как ощутимое воплощение ужаса, сопровождали прихожан до самого выхода из собора, а кое-кого преследовали потом и во сне.
Лессинг чувствовал себя задетым за живое, но по-другому, не так, как его спутник, который смеялся, иронизировал и все не мог забыть «смрад» и «корчи» псалма. Он поспешно распрощался с Кнорре и пошел прочь, широкими шагами миновал несколько переулков, поворачивая всякий раз за угол, когда переулок кончался, огибая защитные тумбы, установленные здесь перед каждым выступом стены, он шагал без устали все дальше, размышляя, непрерывно размышляя, подошел к кирпичным стенам какого-то внушительного здания и вдруг обнаружил, что вновь стоит перед собором Святой Катарины. Круг замкнулся. Он бродил по Гамбургу, словно в поисках чего-то, да он и был в поиске, больше чем когда-либо.