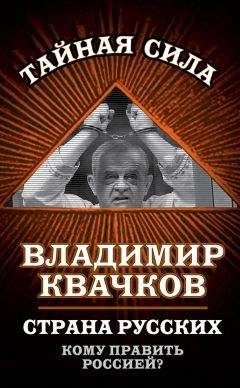Владимир Немцев - Вопросы о России. Свободная монография
В.В.Виноградов, кроме того, конкретизирует это обстоятельство, отмечая, что главный герой, Печорин, демонстрирует с помощью иронии и презрения свои претензии к Грушницкому, «с которым он играет, как кошка с мышью»58. Эти персонифицированные эмоции к представителю своего поколения уже позволяют переводить разговор из психологической в социально-историческую плоскость. Особенно не прощает Печорин Грушницкому его постоянное прикрывание своего небогатого внутреннего содержания солдатской шинелью, имеющей на Кавказе недвусмысленный признак «политического изгнанника», разжалованного офицера, а то и декабриста59.
И нам представляется, что в немалой степени именно это раздражающее щегольство «солдатской шинелью» служит Печорину одним из побудительных мотивов испытать Грушницкого на дуэли. Сцена поединка и его приготовления вообще одна из самых ярких в лермонтовском романе, здесь развитие характеров достигает высшей остроты.
Вообще литературная новизна «дневника Печорина» давно привлекает литературоведов – именно здесь новаторски был показан предельно исчерпывающими языковыми средствами конкретный человек, (личность, по словам Эйхенбаума: «„Герой нашего времени“ – первый в русской прозе <…> „аналитический“ роман: его идейным и сюжетным центром служит не внешняя биография („жизнь и приключения“), а именно личность человека – его душевная и умственная жизнь, взятая изнутри как процесс»60), отражавший новое явление русской действительности. Раньше – и в поэзии – обычно жизненные ситуации и чувства конструировались (вспомним хотя бы литературные опыты в жанре оды М.В.Ломоносова, Г.Р.Державина, логаэды К.Ф.Рылеева), а теперь это стало неприемлемым.
Тем более, без дуэльного эпизода характер Григория Александровича Печорина не может быть понят в полной мере. Печорин останется чудаковатым аристократом, подглядывающим, подслушивающим, издевающимся над теми, кто ему не нравится, а потом быстро всё забывающим (красноречивая запись в дневнике от 22-го мая: «Взойдя в залу, я спрятался в толпе мужчин и начал делать свои наблюдения»61). Тем более, что изображение дуэли Пушкиным в «Евгении Онегине» и Лермонтовым в «Герое нашего времени» во многом сходно. Объединяет эти сцены, как нам представляется, не столько сходство мотивов обеих дуэлей, вызванных «пустыми страстями», сколько кульминационность обоих событий для произведений.
Дуэль, или поединок62, в европейской культуре в средние века играл важную роль формирования ведущей части общества. С его помощью культивировалось понятие чести, внутренней свободы, создавались условия применения непосредственной реакции на бесцеремонность, прямое неуважение, оскорбительные формы проявления чувств, а также защиты прав и достоинства личности63. Монархическое государство не могло не преследовать проявления независимости подданных в этих вопросах, ибо усматривало в акте дуэли недоверие самодержавию. Вряд ли это всегда было именно так, но значительная доля вольнодумства здесь присутствовала – все декабристы были дуэлянтами. Во всяком случае, кары за участие в дуэли предусматривались – хотя бы для сдерживания количества поединков, сокращающих дворянский и офицерский состав.
Пётр Первый выпустил указ, предписывающий смертную казнь всех участников. Однако в России эта кара никогда не приводилась, дело ограничивалось разжалованием, ссылкой, а то простым закрыванием глаз начальства на случаи самовольной организации выяснения отношений64.
Хорошо сказал о поведенческой роли дуэли в нашем общественном сознании А.В.Кацура: «Когда в начале XX века по горькой исторической прихоти дворянский слой исчезнет из российского общества, исчезнут не только учтивая речь и французский прононс. Не только вежливость и терпимость, уважение к другому и умение выслушать оппонента. Старый „матерны лай“ вновь зальет всю страну от низа до самого верха, и вместе с ним вернутся государственное и бытовое насилие, хамство и ложь, трусость и ябедничество, доносительство и сутяжничество, холопство и плебейство, жестокость и презрение к человеческому достоинству. Огромная империя <…> исторгнет из себя <…> всё лучшее европейское. И это больно отзовётся на судьбах человеческой личности»65.
Несомненно, сцены дуэли всегда в художественной литературе были выигрышным средством проявления характеров героев и местом концентрации художественной идеи (кроме названных романов назовём хотя бы ещё «Отцов и детей» И.С.Тургенева, «Поединок» А.И.Куприна, не считая обширного круга зарубежной литературы, особенно французской). И, кроме того, дуэльная традиция занимала важное место в общественной жизни России XIX века. Что же касается «Героя нашего времени», вообще нельзя в полной мере осмыслить роман без жестокой сцены, развернувшейся на «узенькой площадке» в кавказском ущелье.
И при этом верно замечено: «Несмотря на, в общем, негативную оценку дуэли как „светской вражды“ и проявления „ложного стыда“, изображение её в романе не сатирическое, а трагическое, что подразумевает и определённую степень соучастия в судьбе героев»66, – сказанное Ю.М.Лотманом по поводу «Евгения Онегина» вполне относимо и к истории Печорина.
Кстати, как и в «Герое нашего времени», в «Евгении Онегине» есть свой, по выражению Пушкина, «истинный мудрец», знаток дуэльного этикета, соблюдавшегося в России на уровне устных преданий и живого опыта, – Зарецкий. А вот у Лермонтова роль «мудреца» выполняет безымянный драгунский капитан67.
Оба дуэльных авторитета иронично описаны в «Евгении Онегине»:
IV
«…В пяти верстах от Красногорья,
Деревни Ленского, живет
И здравствует еще доныне
В философической пустыне
Зарецкий, некогда буян,
Картежной шайки атаман,
Глава повес, трибун трактирный,
Теперь же добрый и простой
Отец семейства холостой,
Надёжный друг, помещик мирный
И даже честный человек:
Так исправляется наш век!
V
Бывало, льстивый голос света
В нём злую храбрость выхвалял:
Он, правда, в туз из пистолета
В пяти саженях попадал,
И то сказать, что и в сраженье
Раз в настоящем упоенье
Он отличился, смело в грязь
С коня калмыцкого свалясь
<…>.
VII
<…>
Как я сказал, Зарецкий мой,
Под сень черёмух и акаций
От бурь укрывшись наконец,
Живет, как истинный мудрец,
Капусту садит, как Гораций,
Разводит уток и гусей
И учит азбуке детей.
VIII
Он был не глуп; и мой Евгений,
Не уважая сердца в нём,
Любил и дух его суждений,
И здравый толк о том, о сём.
<…>».
Помимо собирательного портрета авторитетных дуэлянтов здесь68 просматривается и будущий портрет Грушницкого. Во всяком случае, это ясно увидел Печорин, предрекая тому подобную судьбу: « <…> он из тех людей, которые на все случаи жизни имеют готовые пышные фразы… <…>. Производить эффект – их наслаждение: они нравятся романтическим провинциалкам до безумия. Под старость они делаются либо мирными помещиками, либо пьяницами – иногда и тем и другим. В их душе часто много добрых свойств, но ни на грош поэзии. Грушницкого страсть была декламировать <…>»69. В другом месте: « <…> он мог <…> удовлетворить таким образом свою месть, не отягощая слишком своей совести <…>» (294).
В подробном описании развития событий, ведущих к дуэли, демонстрируются характеры, портретные описания, нюансы психологических реакций. Печорин, сам проявляя противоречивости своего характера, тем не менее, не чужд саморефлексии. При том он вполне ощущает себя в своей стихии, когда подвергает Грушницкого всё бóльшим и бóльшим испытаниям, чему способствует преимущество осведомлённости в заговоре, где бывшему юнкеру уготована главная роль. Печорин, конечно же, досадует, что Грушницкий всё больше погрязает в подлости, но, с другой стороны, ему выгодно, чтобы это было так: судьба находится в его власти!
С грозной темой судьбы « <…> образ Печорина приобретает черты типического символа всего современного ему поколения: «А мы, их жалкие потомки, скитающиеся по земле без убеждений и гордости, без наслаждения и страха, кроме той невольной боязни, сжимающей сердце при мысли о неизбежном конце, мы неспособны более к великим жертвам ни для блага человечества, ни даже для собственного нашего счастия, потому что знаем его невозможность, и равнодушно переходим от сомнения к сомнению, как наши предки бросались от одного заблуждения к другому, не имея, как они, ни надежды, ни даже того неопределенного, хотя истинного наслаждения, которое встречает душа во всякой борьбе с людьми или с судьбою» (Ср. образы лермонтовской «Думы» и публицистический стиль Чаадаева).