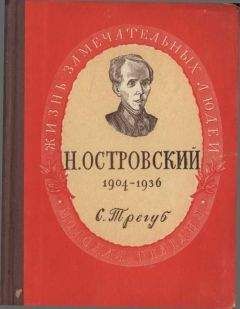Александр Лавров - От Кибирова до Пушкина
Очень богат в этом плане 1922 год. Здесь на первое место хочется поставить, может быть, не самый тогда заметный, но в высшей степени замечательный своей новизной и чисто литературной своеобычностью альманах, само название которого выбивалось из череды обычных «Утренников» и «Дней», «Граней» и «Недр». Мы имеем в виду альманах «Абраксас», три выпуска которого вышли в 1922–1923 годах. Редактором «Абраксаса» (имя это обозначало эзотерический (гностический) символ) был объявлен Орест Тизенгаузен, которому принадлежали и программные статьи-заявления («Декларация форм-либризма»), а вдохновителями выступили Михаил Кузмин и Анна Радлова. Это — первая и очень важная попытка Кузмина как-то обозначить свое собственное литературное направление. Среди участников «Абраксаса» хочется особо отметить Константина Вагинова с повестью «Монастырь Господа нашего Аполлона», причудливо сочетающей яркую антицерковность, почти в духе советских инвектив, с глубокой и искренней религиозностью, обращающейся сразу к древним античным моделям и самым современным опытам.
Кроме этого прозаического произведения К. Вагинов напечатал в «Абраксасе» абсолютно оригинальные и очень значительные стихи («Усталость в теле», «Среди ночных», «Бегу в ночи»). Есть в «Абраксасе» и «Пушкин» Бориса Пастернака («Над шабашем скал, к которым / Сбегаются с пеной у рта»). «Абраксас» — это, пожалуй, наиболее яркий случай нового альманаха периода после Серебряного века, который исходит из близких эстетических принципов, но вместе с тем совершенно оригинален и своеобычен по своей поэтике. Совершенно так же, как «Литературный альманах „Аполлона“» определяет какой-то абсолютно уникальный эстетический хронотоп Серебряного века, «Абраксас» создает хронотоп нового «железного» или «рогожного» века, не теряя при этом основного эстетического критерия красоты и интереса. Можно, кажется, определить этот хронотоп как пространство-время магической трансформации человеческого одухотворенного тела. Соответственно, размерности этого хронотопа направлены не вширь, вдаль и ввысь, а внутрь (напомним в этой связи мотивы трансформации и взгляда внутрь тела, как у Кузмина, так и у Вагинова).
Из многочисленных литературных альманахов той поры обратим внимание на альманах «Кольцо», вышедший первым номером в июле 1922 года в Москве. Это в высшей степени разнообразный по своему составу сборник. Здесь повесть Ивана Шмелева «Чужой крови» о столкновении русской и немецкой культуры в опыте пребывания русского солдата в немецком плену. О. Э. Мандельштам представлен двумя стихотворениями: «Я в хоровод теней, топтавших нежный луг» и «Я наравне с другими». Замечательно изобразительны и пластичны воспоминания Бориса Зайцева в рассказе «Флоренция». Столь же красочна и конструктивно весьма изощренно написанная трехстопным анапестом безрифменная поэма Екатерины Галати «Гибель». Центральное место в альманахе занимает «Зеркало Коломбины, карнавальная арлекинада в 3-х действиях, с прологом и эпилогом» Юрия Слезкина, прозаика, известного, в частности, своими дружескими отношениями с Михаилом Булгаковым и вскоре эмигрировавшего. Пьеса, выполненная в рамках приемов commedia deU’arte, датирована 1916 годом. Действие происходит либо в очень условном Париже, либо в любом другом западноевропейском городе во время карнавала. Герои проходят через вереницу приключений, знакомств, метаморфоз, низменное мешается с возвышенным, и в конце концов все завершается сакраментальной фразой: «Любовь, побеждающая смерть!»
Рассказ Дмитрия Стонова «Поминки» — это действительно своего рода поминки по прежней традиционной русской жизни, с ее обиходом, церковным календарем и уставом. Герои рассказа — супружеская пара, бывшие мелкие помещики, мучительно и безвинно страдающие в гибнущем пространстве-времени 1921 года. Здесь метель, буран, пурга, застающие их в уездном городке, куда они прибыли, претерпев разнообразные перипетии, чтобы сходить на могилу своего сына, оказываются прямым контрастом к бурану в начале «Капитанской дочки» Пушкина. В этом новом — непушкинском! — пространстве-времени нет ни Савельича, ни Пугачева. Спасти героев некому. Завершается альманах крымскими стихами Г. Шенгели «Вон парус виден. Ветер дует с юга, / И, значит, правда, к нам плывет / Высокогрудая турецкая фелюга / И золотой тяжелый хлеб везет». Последняя строфа — своего рода письмо в бутылке, брошенное в воды времени:
Придет поэт. И снова Арго старый
Звон подвига в упругий стих вольет.
И правнук наш, одеян смутной чарой,
О нашем времени томительно вздохнет.
Сборник «Лирический Круг», также вышедший в 1922 году в Москве, определил себя следующим образом, дав попутно собственное понимание понятия «альманах»:
«Лирический Круг» — не альманах, а сборник определенного течения. Его участники — не случайные сотоварищи по изданию, а члены одной группы, связанные общностью взглядов на то, что надлежит сейчас делать в литературе.[1205]
Надежда Яковлевна Мандельштам вспоминала, как в 1922 году к Осипу Эмильевичу обратились Абрам Эфрос, известный искусствовед, и поэтесса София Парнок и стали уговаривать его присоединиться к группе неоклассиков; Мандельштам отказался. По-видимому, «Лирический Круг» — это и есть сборник проектировавшейся группы, которая так и не смогла организоваться. Произведения этого сборника объединены ощущением жертвенности и гордого противостояния. Здесь и стихотворение Анны Ахматовой «Я с тобой, мой ангел, не лукавил…» с его многозначительными строками «И шальная пуля над Невою / Ищет сердце бедное твое», явно вызывающими в душах читателей живое воспоминание о только что происшедшем расстреле Гумилева. Здесь же стихи О. Мандельштама «Умывался ночью на дворе», написанные, как мы знаем, как отклик на гибель Гумилева.
Наряду с подборками стихов С. Парнок, Ю. Верховского, С. Шервинского, К. Липскерова, либо носящими прямо классический, стилизаторский характер, либо содержащими мотивы «памяти», «воспоминания», в «Лирическом Круге» мы встречаем стихотворный цикл Сергея Соловьева «Тени Диккенса» и его же стихотворение «Сон царевны». Сергей Соловьев, племянник философа, видный поэт-символист и религиозный деятель, ближайший друг только что умершего Блока, видимо, был одним из организаторов сборника или его идейных вдохновителей, поскольку далее в книге мы находим его теоретическую статью «Бессознательная разумность и надуманная нелепость». Цикл Сергея Соловьева «Тени Диккенса» — это два стихотворения: «Крошка Доррит» и «Стирфорс». Оба они весьма подробно излагают сюжетный план соответствующих романов Диккенса применительно к этим персонажам и поражают калейдоскопической сменой визуальных и психологических планов. Стихотворение «Стирфорс» посвящено памяти Александра Блока: «Покорившись грозной каре, / Словно сделан изо льда, / Дремлешь ты, как в дортуаре, / В те далекие года». «Сон царевны» позволяет нам заглянуть в духовный мир этого отреченного поэта. Память о загубленных детях невинно убиенной семьи последнего императора встает из строк стихотворения: «Раньше Димитрию, раньше царевичу, / Вставши, затеплю свечу».
Но подлинной жемчужиной «Лирического Круга» являются, конечно, два замечательных стихотворения Владислава Ходасевича: «Автомобиль» и «О. Д. Форш» («На тускнеющие шпили…»). Это — подлинные шедевры новой, послереволюционной поэзии. Наверное, если бы действительно создалась настоящая неоклассическая поэзия, то именно эти стихи Ходасевича, а не различные опыты подражания поэзии классицизма были бы ею. Приведем первое из них:
АВТОМОБИЛЬ
Бредем в молчании суровом.
Сырая ночь, пустая мгла,
И вдруг — с каким певучим зовом —
Автомобиль из-за угла.
Он черным лаком отливает,
Сияя гранями стекла,
Он в сумрак ночи простирает
Два белых ангельских крыла.
И стали здания похожи
На праздничные стены зал,
И близко возле нас прохожий
Сквозь эти крылья пробежал.
А свет мелькнул и замаячил,
Колебля дождевую пыль…
Но слушай: мне являться начал
Другой, другой автомобиль…
Он пробегает в ясном свете,
Он пробегает белым днем,
И два крыла на нем, как эти, —
Но крылья черные на нем.
И все, что только попадает
Под черный сноп его лучей,
Невозвратимо исчезает
Из утлой памяти моей.
Я забываю, я теряю
Психею милую мою,
Слепые руки простираю
И ничего не узнаю:
Здесь мир стоял, простой и целый,
Но с той поры, как ездит тот,
В душе и в мире есть пробелы,
Как бы от пролитых кислот.[1206]
Поистине монументальный образ автомобиля, этого символа новой эпохи, в частности у Блока, становится здесь равным по мощи и суггестивности пластическому образу кафедрального собора с его коннотациями вечности и торжественности.