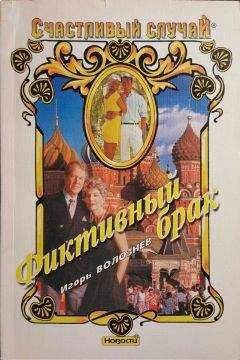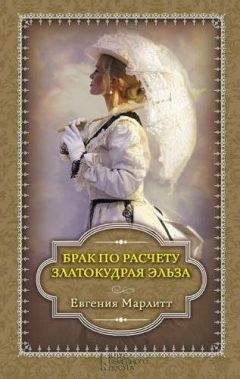Василий Шульгин - Три столицы
— А мы их тут иначе не называем. Мильтон, и все тут!
Очевидно, переделано из «милиционера». Как фантастически глупо…
А впрочем, вовсе и не так глупо.
«Мильтон» — символ советской России. Разве к ней не приложим перифраз бессмертной поэмы настоящего Мильтон а:
Потерянный, но не возвращенный рай.
* * *Иван Иваныч имел вид достаточно близкий «к народу».
Он был в меховой шапке и кожухе, который вымазал ему лицо. По этому поводу он приговаривал с негодованием: «Вот, а еще романовский называется!» Я шел около него «настоящим пурицем», и были мы как раз подходящая пара.
А все вещи, контрабанда и мои, поехали с невиннейшим видом с безобидным Мишкой, который должен был сдать их в один дом на окраине города, откуда их уже переправят на городском извозчике.
Да, потому что городские извозчики существуют.
— Извозчик!
Извозчик… «Как много в этом слове…» Извозчик… Сколько лет я не слышал этого мощного зыка, совершенно недопустимого в Европе. И он подлетел, настегивая лошадь, с худой сбруей и рваной полостью. Все, как было, только похуже.
Позднее я понял, что это вообще самая краткая характеристика современной России: все, как было, только хуже.
— Ты меня знаешь?
— Как не знать. Пожалуйте!..
— Ну валяй домой, целковый получишь…
Мы понеслись, с теми ужимками и ухватками, как возят богатых господ в бедных городках.
— Я тут, знаете, важная персона, — смеялся Иван Иваныч. — Дельцом слыву, почтенная личность… Видите, извозчик, несмотря на полушубок, признал. «Как не знать, пожалуйте!..»
И он смеялся весело…
* * *Я не мог бы в случае чего найти его квартиру. И сумерки, и спутанные улицы; а впрочем, может быть, и нарочно так ездилось непонятно. Кто их знает! Может быть, и извозчик из их шпаны? Может быть, но эта «шпана» с каждой минутой становилась мне все симпатичнее…
— Вот мой дом. Милости просим. Входите смело, все благополучно.
— А как вы знаете?
Он посмотрел на меня лукаво.
— А занавески зачем?
Вошли.
— Вот сюда, направо, пожалуйте, здесь можно мыться.
Я наскоро помылся и вышел через коридор в комнату налево.
— Пожалуйте, пожалуйте… Вот моя жена.
Молоденькая, хорошенькая женщина. Стол, уставленный всевозможными вещами. Рояль. Кресло-качалка. Убранство не роскошное, но достаточное. С точки зрения эмигрантской, я хочу сказать эмиграции стран балканских, — недосягаемое.
— Вот знакомьтесь. А я сейчас.
— Очень устали? Замерзли?
— Устал. Замерз. Но это пустяки. Я вижу у вас рояль. Вы играете?
— Я — нет. Вы?
— Я? Немножко.
— О, пожалуйста…
* * *И я играл…
Разве только для контраста — с «игрушками». Одна из них еще оттягивала мой карман.
«Feu», «sür», «feu», «стой, кто идет?», лес, снега, «опасный перекресток», «пуля в лоб, вот тут какое приветствие», бандиты, таможенники, «волки», семьдесят верст в санях — и вдруг:
Рояль был весь раскрыт..
И струны в нем дрожали…
* * *Молоденькая женщина, опершись о рояль, всматривалась в мое лицо сквозь «пурицкую» бороду. Конечно, ее интересовали не аккорды с орфографическими ошибками, которые «струились» из-под замерзших дилетантских пальцев, а «человек оттуда»…
Как они там живут? Наши. Расскажите!
* * *Она не знала, кто я. Для нее я был один из тех, кого переводил ее муж через границу. Для него я тоже был ничем, т. е. я неверно выразился, я был для него живая контрабанда. Но вместе с тем я все же был человек оттуда. Разве у контрабандистов нет сердца?
Ну, словом, это понятно. Ведь мы, так называемая эмиграция, это кусочек этой большой родины, кусочек, который оторвался. Но и там, и здесь все еще дрожат те же струны.
Как и сердца у нас
Под песнею твоей…
И я рассказывал «под наивность старых романсов».
* * *То, что я рассказывал, это мы все знаем: эмигрантские картины…
* * *Но я не успел развернуть эту фильму длиною в пять тысяч километров. Вошел кто-то.
Это был молодой человек, элегантный тонким слоем пудры, как бывает, когда человек прямо из рук брадобрея. Одетый «по-европейски», щеголяющий галстуком. Он улыбался мне приветливой улыбкой хозяина…
Неужели это был он?
Да, это был он, мой суровый контрабандист — «пуля в лоб, вот тут какое приветствие»…
Я протянул ему руки, чтобы поблагодарить его еще раз за «перевод», а может быть, чтобы ощупать. Да он ли?
Он.
— Только в Рокамболе бывают такие превращения!.. Да вы, милый друг, еще дитя!
Теперь на вид ему было лет 25…
* * *В это время в комнату вошел еще кто-то.
В глаза мне метнулись тонкое, сухое лицо и пенсне, которое блеснуло… как монокль. Да, этому человеку безусловно шел бы монокль. Мне кажется, это достаточно, чтобы его определить. Он был бы на месте где-нибудь в дипломатическом корпусе.
— Вот, разрешите вас познакомить.
Мы пожали друг другу руку, не произнося никаких фамилий. К чему? Ясно было, что настоящих не услышишь, а для фальши тоже не было в настоящую минуту достаточных оснований. Да и почем я знал, какая моя фамилия? Старая умерла, а новая еще не родилась.
Впрочем, этот акт рождения произошел немедленно.
Мой новый знакомый сказал мне:
— Знаете, я бы вас никогда не узнал!
— А мы встречались?
— Да, мы встречались. Но вы меня забыли в «калейдоскопе лиц»… Я же вас очень хорошо помню. Я — киевлянин. Но это в данную минуту неважно. Важно установить, кто вы сейчас. Разрешите вам вручить приготовленный для вас паспорт. Вы можете здесь прочесть, что вы — Эдуард Эмильевич Шмитт, что вы занимаете довольно видное место в одном из госучреждений и что вам выдано командировочное свидетельство, коим вы командируетесь в разные города СССР, причем советские власти должны оказывать вам всяческое содействие. Итак, Эдуард Эмильевич, разрешите вас так и называть…
* * *— Эдуард Эмильевич! Антон Антоныч! Милости просим…
И вот мы закусывали. Я даже выпил рюмку водки — жертвоприношение, которое совершаю в случаях совершенно исключительных.
По виду эта та же самая, «прозрачная, как слеза», русская водка. На вкус?
На мой вкус та же дрянь, какая всегда была. Но от знатоков позднее слышал, что хотя это, конечно, несравненная русская водка, которая превыше всех питий земных, но все же много хуже прежней.
Оно и понятно: «Все, как было, только хуже…»
* * *Я, конечно, набросился на икру. За пять лет я видел ее только однажды (в одном посольстве). Теперь бессовестно я пожирал «тысячу жизней» в каждом глотке. Что бы об этом сказали боги? Осудили бы?
Нет, йоги не осуждают. Всему придет свое время, и когда-то так же невозможно будет есть икру, как сейчас невозможно есть человеческое мясо. А давно ли оно было любимым лакомством?
Так как русские — молодая раса, то не очень отдаленные мои предки были людоедами «по убеждению». Это несомненно. Не оттого ли в 1921 году во время голода на Волге съели стольких детей?
Было ли это? Я спросил.
Антон Антонович ответил, и пенсне его блеснуло точным блеском дипломатического монокля.
— Было. Вне всяких сомнений. Несколько миллионов умерло от голода. И тогда людей — ели… Это факт. Ведь тогда у нас был — «Военный Коммунизм»…
* * *Когда он сказал это слово, я впервые почувствовал его в том значении, какое оно сейчас имеет в СССР.
Военный Коммунизм!.. Ужас, ушедший в прошлое; нечто реальное, как вчерашний день, но непредставляемое себе в будущем, вроде как потоп, мор, землетрясение…
* * *Но ведь когда мы едим хлеб, мы тоже пожираем «тысячи жизней», т. е. зерен… И поэтому я ел прекрасную, черную, живительную икру (паюсную). Цена ее — три рубля фунт.
* * *Затем?
Затем была осетрина, балык, грибки, семга и еще всякое такое — в истинно русском вкусе. Я был сыт, когда собственно начался обед. Это становилось грозным для моего европеизированного желудка.
Все же я рассказывал. По их желанию — «из жизни эмиграции»…
Приближались праздники. Правда — по новому стилю.
— Нет, — мы по старому!
А я-то думал, что только эмиграция «во всем мире» сохранила старый стиль.
Не все ли равно, старый, новый… Словом, я рассказывал то, что было год тому назад на святках. Я рисовал им большую, но бедную комнату, в которую парами под полонез входили русские мальчики и девочки.
Девочки-институтки были в белых платьях, а мальчики-кадеты в своей кадетской форме.
— В погонах?!
В погонах…
* * *Прошли года томительно и скучно,
И вот в тиши ночной твой голос слышу вновь…
Вот это действительно единственное место в мире, где это сохранилось. Обломок старого. Все — такое же! Такие же русские дети, такие же русские подростки, такая же молодежь, какая была раньше. А в Белграде в русской церкви, которую мы недавно выстроили на свои русские деньги, стоят знамена… Семьдесят их. И при них всегда караул — офицерский. Днем и ночью. И вот они там стоят в полной форме своих старых полков…