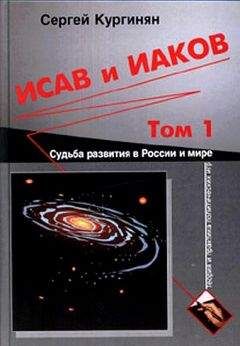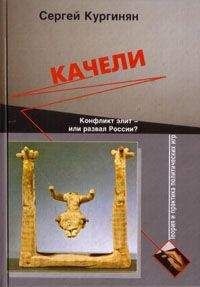Сергей Кургинян - Исав и Иаков: Судьба развития в России и мире. Том 2
Энтузиазм желанен. Он порожден новым, коммунистическим идеалом. Конкурирующие идеалы не сумели породить энтузиастического накала. Смогли бы — не было бы никакого коммунизма и никаких большевиков. Проиграв, эти идеалы должны уйти со сцены.
Не уходят? Их надо устранить, обеспечив тем самым структуризацию всего энтузиазма только вокруг победившего идеала. Так же рассуждали якобинцы. Так же рассуждали первохристиане.
Это аксиома победившей идеологии. Ярославский туп и прямолинеен. Он не осознает необходимости жизненных компромиссов между Новым и Старым. Но так же их не осознавали те, кто топил в реках волхвов или воодушевлял массы на крестовые походы. Грубая, прямолинейная и неадекватная оценка религии как «опиума для народа» может при определенном ее анализе дать для понимания существа дела больше, чем гораздо более умные и тонкие суждения по поводу религии вообще и ее значения для народа в частности. Вдумаемся: религию обвиняют в том, что она сковывает волю, обнуляет энергию. Да, это абсолютно несправедливо, но… «Скажи мне, в чем ты обвиняешь противника, и я тебе скажу, кто ты». Тот, кто обвиняет противника в том, что он сковывает волю и гасит энергию, обнажает свой восторг перед волевым и энтузиастическим началом. Ведь что такое «опиум»? Это успокоитель. Революционер кричит священнослужителям: «Успокаиваете людей, гады! Сковываете их волю! Не то что мы!»
Опиум… Человек, пристрастившийся к этому зелью, обесточен. Он, как и хронический алкоголик, не годен для напряженной, высокоорганизованной и высококачественной деятельности. Ярославский как бы говорит: «Нам нужны люди трудового и боевого подвига! А вам — покорные пофигисты». Человек высокой религиозной нормы возмутится и скажет: «Это нам-то не нужны подвижники и герои!» Он перечислит достижения религии на этой ниве. Но он тем самым признает ценность подобной нивы.
А теперь представьте себе, что кто-то, говорящий от лица религии, выдвинет другой желанный тип человеческой личности и тем самым скажет: «Да, омерзительный Ярославский прав! Нам нужен именно такой — внеэнтузиастический, внеподвижнический, внегероический — человек. У-спо-ко-ен-ный человек! Мы успокаиваем, хоть бы и за счет повреждения энергетических центров! Но это наше благое дело! Да здравствует «опиум для народа»! Да здравствует это великое лекарство от революции!»
Лекарство от революции… Лекарство от истории… Лекарство от подвига, героизма… Возможна ли религия в виде такого лекарства? И возможно ли христианство подобного формата? Что ответит вам на этот вопрос культуролог (подчеркиваю — культуролог, а не религиозный адепт, считающий, что переформатирование системы, имеющей аутентичный сакральный источник, может осуществляться только этим источником)?
Культуролог прежде всего предложит рассмотреть историческое христианство как систему с определенной эластичностью. Он обратит внимание на то, что катакомбное христианство очень сильно отличается от христианства классического Средневековья, что и внутри классического Средневековья имела место вариативность. Как допускаемая церковью, так и внецерковная. И что соотношение между церковными и внецерковными инновациями зависело от гибкости института и его готовности бороться за паству. А также — реагировать на вызовы Времени. Такой культуролог обратит внимание верующего на предельную корректность именно исторического подхода. «Вот вы считаете, — скажет он верующему, — что все определяется божественным промыслом. Но этот промысел допускал уже и это, и это, и это… Значит, можно, не задевая религиозное чувство, говорить о вариативности, разноформатности! А как иначе-то может быть? Ведь христианство — это живая система, обязанная проявлять изменчивость и адаптивность! Не проявляя подобных свойств, система подписывает себе смертный приговор».
Получив санкцию верующего на такой анализ, проводимый, конечно же, с учетом трансцендентального императива, делающего верующего — верующим… Получив, повторяю, такую санкцию, культуролог зафиксирует совокупность несомненных исторических фактов. Он, например, укажет на то, что было христианство, звавшее обездоленных на борьбу за справедливость, и христианство, благословлявшее тех, кто подавлял поднявшихся на борьбу. Что уже одним этим опровергается, кстати, чушь по поводу исключительной успокоительности христианства. «Ничего себе «опиум для народа»! — скажет культуролог. — А Томас Мюнцер? А Иоахим Флорский? А Фома Аквинский, писавший, что солдат, воюющий за правое дело, почти святой? А современная теология освобождения? Это не успокоитель, а возбудитель! Да еще какой! Фидель Кастро это понял и совсем не случайно поддержал. А вам бы все — опиум!»
Что вам ответит оппонент? Он скажет (к бабке не ходи — скажет!), что христианство, звавшее обездоленных на борьбу за справедливость, — это хилиастическая ересь! Вы хотите защитить христианство от опиумных наветов. Как это сделать? Привести контрпримеры! Вы их приводите, а вам говорят от лица церкви: «А это все не мы! Это хилиастические еретики!»
Что вы можете ответить на это, если вы культуролог, испытывающий самые искренние симпатии к христианству и желающий оградить его от опиумных наветов? Что это и называется переформатирование. И что трансцендентальный императив никоим образом не исключает участие церкви в мирской жизни. И прежде всего, в борьбе за умы и сердца людей. А там, где есть эта борьба, там есть и все остальное. Политика в том числе.
Новые постсоветские «религиозники» (они же иногда и бывшие советские обществоведы) выполняют классовый заказ. И именно поэтому изгоняют из церкви все левое, называя его хилиастическим. Они боятся, как чумы, например, христианского левого социализма, да и любого другого социализма, хоть бы и самого что ни на есть «правоуспокоительного». Ну, что же… Заказ так заказ… Рассмотрим, что это за заказ, никоим образом не травмируя констатацией оного трансцендентального императива верующего. Верующий — он ведь не только верующий. Он ведь еще и человек с определенными социальными, культурными, а значит, и политическими запросами.
Кроме того, он мыслящий человек, знающий историю вопроса. Одно дело, если он может быть верующим и одновременно поддерживать Сальвадора Альенде. Или даже Фиделя Кастро. А другое дело, если ему говорят: «Поддерживай Пиночета — или от церкви отлучим! Не проголосуешь за франкистов — к причастию не допустим!» Он ведь и задуматься может, этот самый верующий. И задаться, к примеру, вопросом: «А у кого политический перегиб-то? Кто на деле отменяет трансцендентальный императив, превращая духовную страсть в заложницу неких очень грубых и однозначных политических предпочтений? Что представляют собой эти предпочтения? Что же именно собираются отсекать в угоду этим самым, грубым до безумия, новоявленным суррогатам классового подхода? В чем тенденция и куда она нацелена? Что она уже обнажает и что скрывает до поры до времени? И если это тенденция (то есть нечто, имеющее направленность), то не заденет ли такая направленность раньше или позже то смысловое ядро, которое и делает верующего верующим?»
Итак, необходимо всего-то несколько констатации для того, чтобы все сдвинулось с мертвой точки.
Констатация № 1 — что все российские экзерсисы с Платоном, Плотином, Августином, хилиазмом etc. нужны для решения вульгарнейшей политической задачи, состоящей в таком переформатировании христианства, при котором все левое, социалистическое, «розовое» и уж тем более «красное» (а ведь и такое как-никак существует) окажется беспощадно ампутировано. А в христианство окажутся допущены только правые и ультраправые в их постсоветском специфическом понимании.
Констатация № 2 — что никому не придет в голову замыслить и уж тем более заявить о чем-то подобном ни в православной Греции, ни в католической Испании. И уж тем более — в Латинской Америке. Такие заходы возможны только в постсоветской России.
Констатация № 3 — нигде более такие заходы невозможны, поскольку сами конфессии ни на что подобное не пойдут. А почему не пойдут? Кто там, у них, делает подобные заходы неосуществимыми? Государственная власть, что ли, ставит на место конфессии, тяготеющие к подобному? Ничуть не бывало! Во-первых, из ценностных соображений. Конфессии понимают, что, ампутировав все левое и социальное, они приведут к необратимой мутации весь институт Церкви.
Во-вторых, не пойдут из соображений прагматических. Конфессии заботятся о пастве. Как-никак, XXI век.
Ну, так что же? В моем Отечестве не работают ни ценностные, ни прагматические соображения, которые работают везде? А почему они здесь не работают? Так мало верующих? Отнюдь! Такая борьба за чистоту православия? В Греции очень искреннее и даже истовое православие. А об ампутациях указанного типа никто и помыслить не может. Так, значит, есть в происходящем нечто экстраординарное? Есть!