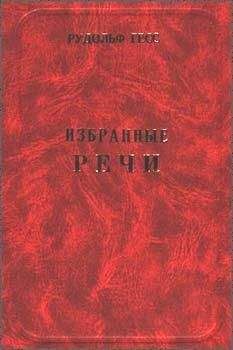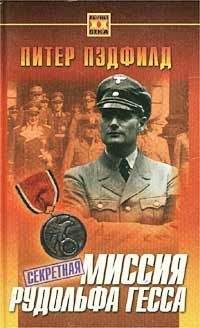Рудольф Гесс - Комендант Освенцима. Автобиографические записки Рудольфа Гесса
Однако сам он этого никогда мне не предлагал. Когда весной 1918 г. он погиб во втором иорданском сражении, я очень горевал. Его смерть подействовала на меня очень сильно.
В начале 1917 г. нашу часть перебросили на палестинский фронт. Мы прибыли на библейскую землю. Сокровенные имена из Священного писания и легенд оказались совсем рядом. Насколько же все это отличалось от того, что возникало в детских фантазиях благодаря картинам и книгам!
Поначалу нас отправили на патрулирование дороги в Хиджаз, а потом перевели к Иерусалиму.
Однажды утром, когда мы ехали с другого берега Иордана, нам повстречалась вереница крестьянских повозок, нагруженных кусками мха. Англичане всеми возможными способами пытались снабдить оружием арабов и смешанное население Палестины, которое только и мечтало избавиться от турецкого господства. Поэтому нам приходилось обыскивать все встречавшиеся повозки. Мы приказали крестьянам снять с груз с их телег и с помощью нашего переводчика, молодого еврея, начали их опрашивать. Но вопрос, куда они везут мох, крестьяне объяснили, что едут в иерусалимский монастырь, чтобы там продать его паломникам. Мы ничего не могли понять. Вскоре я был ранен и оказался в госпитале Вильгельмы — поселения немецких колонистов между Иерусалимом и Яффой. Тамошние жители приехали из Вюртемберга по религиозным причинам. Только в госпитале я узнал, что продажа мха, который крестьяне обозами доставляли в Иерусалим, — очень выгодное дело. Это была разновидность исландского серого мха, покрытого красными точками. Паломникам говорили, что это мох с Голгофы, — красные пятна выдавались за кровь Христа, — и продавали его за большие деньги. Колонисты откровенно рассказывали о прибылях мирного времени, когда тысячи паломников посещали святые места. Паломники скупали все, что было связано с ними и, тем более, с самими святыми. Особенно преуспел в этом деле один иерусалимский монастырь, где делалось все, чтобы вытрясти из паломников побольше денег. После выписки из госпиталя я увидел все это в Иерусалиме собственными глазами. Правда, из-за войны там было мало паломников, но много немецких и австрийских солдат. Подобную торговлю я видел позднее в Назарете. Я разговаривал со многими товарищами. Продажа якобы сакральных предметов представителями всех церквей возмущала меня. В большинстве своем мои соратники относились к этому спокойно. Они говорили: раз людей надувают, они должны платить за свою глупость. Другие видели в этом вид туристической индустрии. Лишь немногие, подобные мне, глубоко верующие католики, осуждали церковную торговлю, возмущались наживой на серьёзных религиозных чувствах паломников, многие из которых продавали все свое добро, чтобы хоть раз в жизни увидеть святые места.
Я долго не мог смириться с подобными вещами. В конечном счете именно они, вероятно, стали позже главной причиной моего ухода из лона церкви. Должен при этом заметить, что все мои товарищи по оружию были убежденным католиками из глубоко религиозного Шварцвальда. Я не услышал от них ни единого упрека в адрес церкви. Тогда же я пережил свою первую любовь. В госпитале Вильгельмы за мной ухаживала молодая немецкая медсестра. У меня было ранение колена и одновременно рецидив запущенной малярии. Я нуждался в постоянном уходе — в бреду я мог натворить много бед. Эта медсестра ухаживала за мной так, что ее не смогла бы заменить и родная мать. Но постепенно я понял, что поводом для таких забот была не только любовь материнского свойства. До той поры любовь к женщине, к другому полу, была мне неизвестна. Конечно, об отношениях между полами я многое знал из разговоров своих товарищей. Солдат высказывается на этот счет весьма определенно. Но самому мне страсть была тогда еще чужда, возможно, из-за отсутствия повода. К тому же перегрузки на фронте не способствовали возможным порывам любви. Сначала меня смущали ее нежные прикосновения, усиленное внимание ко мне и неоправданные задержки возле моей койки. Я с детских лет уклонялся от всяческих знаков нежности. Но на этот раз я оказался в магической ауре любви и увидел женщину другими глазами. Эта встреча стала для меня переживанием волшебным, небывалым во всех значениях этого слова, вплоть до полового сношения, которым оно завершилось. У меня самого никогда не хватило бы для этого мужества. Первое любовное переживание во всей своей полноте любви и нежности на всю жизнь стало для меня путеводной нитью. Я никогда не мог болтать о таких вещах, половые сношения без любви стали для меня немыслимы. Таким образом я уберегся от любовниц и борделей.
Война окончилась. Благодаря ей я и внешне, и внутренне намного опередил свой возраст. Военные переживания оставили во мне неизгладимый след. Я вырвался из тесного уюта родительского дома. Мой кругозор расширился. За два с половиной года военных странствий я многое увидел и пережил, познакомился с людьми из различных сфер, увидел их нужды и слабости.
Дрожащий от страха, сбежавший от матери школьник, каким я был в своем первом бою, превратился в усталого сурового солдата. Я стал самым молодым унтер-офицером в армии, получив этот чин в 17 лет. В том же возрасте я уже был награжден ЖК-I. Я был произведен в унтер-офицеры почти исключительно за свое участие в важных разведывательных и диверсионных мероприятиях. Со временем я усвоил, что лидерство обусловливается не чином, что этот вопрос решает спокойствие лидера в тяжелых ситуациях. Но насколько же трудно всегда быть образцом и сохранять лицо в то время, как изнутри ты выглядишь совсем иначе.
В момент перемирия, которое застало нас в Дамаске, я твердо решил не дать себя интернировать и своими силами пробиваться на родину. В корпусе меня от этого отговаривали. Весь мой отряд заявил, что намерен пробиваться со мной. Весной 1918 г. я повел отдельный кавалерийский отряд. Все мои солдаты были в возрасте от тридцати лет, мне было восемнадцать. Мы с приключениями прошли Анатолию, на прибрежных суденышках добрались по Черному морю до Варны, поскакали дальше через Болгарию и Румынию, по глубокому снегу перешли трансильванские Альпы, миновали Трансильванию, Венгрию, Австрию. И после трехмесячного марша, который мы совершили без карт, полагаясь лишь на школьные знания географии, реквизируя фураж и продовольствие, часть нашего отряда добралась до родины. Никто нас здесь не ждал. Думаю, с нашего театра военных действий в полном составе на родину не вернулось ни одно подразделение.
3. Добровольческий корпус и убийство (1919–1923)
Еще во время войны во мне просыпались сомнения в том, что я имею призвание к деятельности священника. Из-за истории с исповедью, а также из-за увиденного в святых местах, где торговали «священными» сувенирами, мое доверие к церкви исчезло. Я сомневался в церкви. И постепенно во мне развилась стойкая неприязнь к профессии, которую избрал для меня отец. Но ни о какой другой я прежде не думал. Я ни с кем об этом не разговаривал. Даже в своем последнем письме, уже перед смертью, мать напоминала: я не должен забывать о карьере, избранной для меня отцом! Почтение к воле родителей и отвращение к этой профессии спорили во мне друг с другом. Я не разобрался с этим до самого своего возвращения на родину. Мой опекун, да и все мои родственники сразу же после моего возвращения стали требовать, чтобы я немедленно отправился в семинарию, чтобы найти там общество и подготовку, подобавшие моей будущей профессии. Наш дом находился в полном упадке, сестры жили при монастырской школе. Только теперь я осознал утрату матери. У меня больше не было родины! Я оказался брошенным, предоставленным самому себе. Все памятные вещи, вообще всё, что мы ценили и любили в родительском доме, наши «дорогие родственники» разделили между собой, будучи твердо убеждены, что я пойду в миссионеры, а сестры останутся в монастыре, и, таким образом, эти «мирские» вещи нам не понадобятся. Хватало с нас и сохранившейся возможности совершать покупки, сидя в монастыре и в миссионерском доме!
Полный гнева на самоуправство родственников и тоски по утраченному отечеству, я в тот же день отправился к дяде, который был моим опекуном, и лаконично сообщил ему, что не собираюсь становиться священником. Тот попробовал все же сломить мою волю. Он заявил, что, поскольку родители хотели видеть меня священником, для приобретения другой профессии он не даст мне денег. Я решительно отказался от своей доли наследства в пользу сестер, и в тот же день подтвердил свой отказ у нотариуса. Я положил конец дальнейшим хлопотам своей родни и отныне должен был выбиваться в люди самостоятельно. Я без прощания вышел из дома своих милых родственников и на следующий день уехал в Восточную Пруссию, чтобы вступить в Прибалтийский добровольческий корпус[20].
Итак, вопрос о моей профессии внезапно разрешился, и я снова стал солдатом. Я снова обрел родину, уверенность в себе, товарищей. И странно: меня, одинокого волка, привыкшего таить свои переживания в глубине души, всегда тянуло к братству, в котором один непременно поддерживал другого в беде и в опасности.