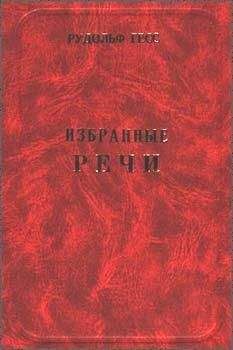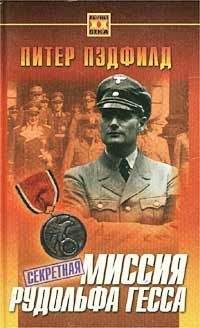Рудольф Гесс - Комендант Освенцима. Автобиографические записки Рудольфа Гесса
До шестого года моей жизни мы жили в пригороде города Баден-Баден. В окрестностях нашего дома находились лишь отдельные крестьянские дворы. Товарищей по играм я в это время совершенно не имел, все соседские дети были намного старше меня. Таким образом я довольствовался общением со взрослыми. Все это мало радовало меня, и там, где это было возможно, я пробовал избавиться от надзора и в одиночку предпринять собственную исследовательскую экспедицию. Особенно кружили мне голову высокие ели в большом лесу Шварцвальда, который начинался совсем рядом. Однако я проникал не слишком далеко, лишь настолько, насколько мог видеть нашу долину с горных вершин. К тому же я, собственно, и не мог самостоятельно ходить в лес, поскольку однажды, когда я был еще младше и один гулял в лесу, меня там встретили и украли бродячие цыгане. Случайно повстречавшийся на дороге сосед-крестьянин все же смог отнять меня у цыган и привести домой. Мне также очень нравилось большое городское водохранилище. Я мог часами слушать таинственный шум за толстыми стенами и не мог понять его причину, несмотря на объяснения взрослых. И все же большую часть времени я проводил в крестьянских стойлах, и когда меня искали, то смотрели прежде всего в стойлах. Особенно мне нравились лошади. Я никогда не мог удовлетвориться тем, что глажу их, разговариваю с ними или скармливаю им лакомые куски. Если предоставлялась возможность поухаживать за ними, я тут же хватал чесалки и щетки. К постоянному страху крестьян, я при этом ползал между лошадиных ног, но ни разу ни одно животное не ударило меня, не лягнуло и не укусило. Даже с самыми свирепыми быками я дружил. Я также не боялся собак, ни одна из них никогда мне ничего не сделала. Я откладывал самую любимую игрушку, когда предоставлялась возможность улизнуть в конюшни. Моя мать перепробовала все возможное, чтобы отучить меня от этой опасной, как ей казалось, любви к животным. Но всё было напрасно.
Я был и остался одиночкой, больше всего мне нравилось играть одному и без надзора. Я не любил, когда кто-то наблюдал за мной.
Я также испытывал непреодолимую тягу к воде, мне все время надо было мыться и купаться. При первой же возможности я мылся или купался, в ванне или в ручье, который протекал через наш сад. Из-за этого я испортил множество вещей — одежды, игрушек. Эта страсть возиться с водой и сейчас сохранилась во мне. На седьмом году моей жизни состоялось наше переселение в окрестности Мангейма. Снова мы жили за городом. Но к моей величайшей печали, здесь не было ни конюшен, ни животных. Как позднее рассказывала мать, я целыми неделями бывал почти болен от тоски по своим животным и своему лесу в горах. В то время мои родители делали все, чтобы отучить меня от слишком большой любви к животным. Это им не удалось. Я забирал все книги, в которых были изображены животные, забивался куда-нибудь, и тосковал по своим скотинкам. К седьмому дню рождения я получил своего Ганса — угольно-чёрного пони с блестящими глазами и длинной гривой. Я был почти вне себя от радости. Я нашел своего друга. Ганс был очень доверчив, он всюду ходил за мной как собака. Когда родители бывали в отлучке, я даже приводил его в свою комнату. А поскольку с нашей прислугой я был в хороших отношениях, она смотрела на мою слабость сквозь пальцы, и не предавала меня. В местности, где мы жили, было, правда, достаточно партнеров по играм моего возраста. Я играл с ними в те же детские игры, в которые играли во все времена во всем мире, а также пускался вместе с ними во многие мальчишеские проделки. Но все же больше всего я любил ходить со своим Гансом в большой лес близ Хардта, где мы часами ездили одни, не встречая ни души.
Тем временем началась серьезная жизнь — школа. В первые школьные годы не произошло ничего, достойного упоминания. Я усердно учился, по возможности быстро делал уроки, чтобы на мои прогулки с Гансом осталось побольше времени. Родители этому не препятствовали.
Согласно обету моего отца, я должен был стать священником, и тем самым моя профессия и судьба считались предрешенными. Этому было подчинено все мое воспитание. Тому же способствовала и глубоко религиозная атмосфера нашего дома. Мой отец был фанатичным католиком. Во время жизни в Баден-Бадене я редко видел отца — он постоянно находился в разъездах, либо месяцами был занят в других городах[17]. Все изменилось в Мангейме. Почти каждый день отец находил время для занятий со мной, касалось ли дело уроков либо моей будущей профессии. Но все же гораздо больше мне нравились его рассказы о временах службы в Восточной Африке и о борьбе с мятежными туземцами, описания их жизни, привычек, их мрачного идолопоклонства. Я с горящим воодушевлением слушал, как он рассказывал о благодатной цивилизаторской деятельности миссионерских сообществ. Для меня было ясно, что я обязательно стану миссионером и отправлюсь в самые глухие дебри Африки, по возможности в непроходимые леса. Особыми праздниками становились для меня дни, когда к нам в гости приходил старый бородатый священник, знакомый с отцом по Восточной Африке. Я не отходил от него ни на шаг, чтобы не пропустить ни единого его слова. Да, я забывал при этом даже своего Ганса. Мои родители держали очень гостеприимный дом, хотя сами выбирались в общество редко.
К нам приходили духовные лица всех рангов. С годами мой отец становился все более религиозным. По мере того, как у него бывало время, он возил меня с собой по всем паломническим местам моей родины, в отшельнические поселения Швейцарии, в Лурд во Франции. Страстно вымаливал он для меня благословение неба, дабы со временем я стал одаренным священником. Я и сам был глубоко верующим, настолько, насколько может быть им мальчик моих лет, и относился к своему религиозному долгу весьма серьезно. Я молился со всей детской истовостью, и усердно прислуживал во время богослужений.
Своими родителями я был приучен оказывать всяческое уважение взрослым и особенно старикам из всех социальных кругов. Везде, где была необходима помощь, ее оказание становилось для меня главным долгом. Отдельно укажу также на то, что я беспрекословно выполнял пожелания и приказы родителей, учителей, священника и др., и вообще всех взрослых, включая прислугу, и при этом ничто не могло меня остановить. То, что они говорили, всегда было верным.
Эти правила вошли в мою плоть и кровь. Я хорошо помню, как мой отец — будучи фанатичным католиком, он решительно не соглашался с правительством и его политикой, — постоянно говорил своим друзьям, что несмотря на такую враждебность, следует неукоснительно выполнять законы и распоряжения государства.
Уже с ранних лет я воспитывался в твердых понятиях о долге. В родительском доме строго следили за тем, чтобы все задания выполнялись точно и добросовестно. Каждый имел определенный круг обязанностей. Отец обращал особое внимание на то, чтобы я педантично исполнял все его распоряжения и пожелания. Например, однажды ночью он поднял меня с постели, потому что я повесил в саду чепрак, вместо того, чтобы повесить его сушиться в сарае, как он велел. Я об этом просто забыл. Он постоянно учил меня, что из маленьких, даже самых незначительных упущений может получиться огромный вред. Тогда это было мне непонятно, но позднее, наученный горьким опытом, я усвоил эту истину всем сердцем.
Теплые взаимоотношения моих родителей были полны заботы и взаимного понимания. Однако я не могу припомнить, чтобы они проявляли друг к другу нежность. Но точно так же они никогда не говорили друг другу сердитых и тем более злых слов. В то время как мои младшие (соответственно на два года и на шесть лет) сестры были очень ласковы и во всем подражали матери, я всегда, уже с детства отклонял все знаки нежности, о чем постоянно сожалели мать, все мои тетки и другие родственники. Рукопожатие и слово благодарности — это было пределом того, что можно было от меня получить.
Хотя мои родители были мне вполне преданы, я так и не смог найти к ним путь с теми своими большими и малыми печалями, которые временами омрачают мальчишеское сердце. Я справлялся с ними сам. Моей единственной отдушиной был Ганс — и, как мне кажется, он меня понимал. Обе мои сестры очень любили меня и постоянно пытались наладить со мной теплые, дружеские отношения. Но я не мог ответить им взаимностью. Я только играл с ними, когда был обязан это делать. При этом я злил их до тех пор, пока они в слезах не бежали к матери. Такие злые шутки я проделывал с ними часто. И все же они продолжали любить меня, и даже сегодня сожалеют, что я никогда не мог найти для них теплых чувств. Они всегда оставались для меня чужими.
Своих родителей, как отца, так и мать я очень уважал и относился к ним с почтением. Однако любви, — той любви к родителям, которая стала понятной мне позже, — я к ним не испытывал. Почему так было, мне непонятно, я даже сегодня не могу найти тому объяснений.