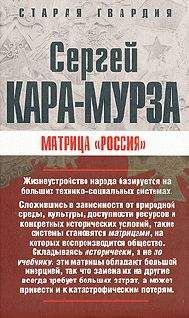Сергей Кара-Мурза - Кризисное обществоведение. Часть I
Миф сам по себе неуязвим. Он нечувствителен к рациональным аргументам, его нельзя отрицать с помощью силлогизмов… Понять миф — означает не только понять его слабости и уязвимые места, но и осознать его силу. Нам всем было свойственно недооценивать ее. Когда мы впервые услышали о политических мифах, то нашли их столь абсурдными и нелепыми, столь фантастическими и смехотворными, что не могли принять их всерьез. Теперь нам всем стало ясно, что это было величайшим заблуждением. Мы не имеем права повторять такую ошибку дважды. Необходимо тщательно изучать происхождение, структуру, технику и методы политических мифов. Мы обязаны видеть лицо противника, чтобы знать, как победить его».
Особенно важны для политических целей черные мифы. Они поддерживаются в общественном сознании для того, чтобы в нужный момент оживить их и провести кампанию пропаганды. Черный миф, с которым удается в массовом сознании связать противников (они, мол, — инквизиторы, фашисты, сталинисты, мафиози и т. д.), сразу заставляет отшатнуться от них колеблющихся. Противники, на которых удалось наклеить ярлык черной метафоры, вынуждены тратить много сил на то, чтобы сорвать ярлык: «Да что вы, какой же я сталинист! Я тоже за демократию и за реформы!». Если такой политик не имеет доступа к телевидению, сделать это практически невозможно.
Нередко после периода бесплодных попыток тактику меняют: «Да, я — сталинист!». При этом требуется убедить людей, что этого не надо бояться, что образ Сталина злонамеренно мифологизирован, что в действительности быть сталинистом означает то-то и то-то. Но это — трудноразрешимая задача, поскольку миф потому и живуч, что опирается на взаимодействие сознания и подсознания, на сочетание обрывков достоверной или правдоподобной информации с иррациональной верой в Зло, подкрепленной сильными художественными средствами. В результате, партия (движение, народ, страна или даже просто идея), которая решила принять на себя груз черного мифа, оказывается локализованной, окруженной зоной отчуждения. Чтобы преодолеть этот барьер, требуется общее крупное потрясение, ставящее под сомнение всю систему мифов и верований.
Большие исторические черные мифы создаются авторитетными интеллектуалами и художниками и поддерживаются усилиями правящих кругов для того, чтобы сохранять культурную гегемонию этих правящих кругов. Эти мифы оправдывают тот разрыв с прошлым, который и привел к установлению существующего порядка. Для истории России в Новое время и для ее отношений с Европой очень важен, например, черный миф об Иване Грозном. Из этого мифа до сих пор и в среде нашей интеллигенции, и на Западе выводится якобы «генетически» присущий России тип кровавой и жестокой деспотии.
Важен и черный миф о черносотенцах, созданный в начале XX века и с тех пор регулярно обновляемый. Из этого исторического мифа, который уже укоренен в сознании, выводят два «дочерних» современных мифа: о «русском фашизме» и «русском антисемитизме». Оба они — исключительно сильные средства раскола общества и очернения политических противников внутри страны. В то же время это сильное средство политического давления и в международных делах: страна или политический режим, которые в общественном мнении Запада представлены как носители фашизма или антисемитизма, сразу оказываются резко ослабленными на всех переговорах и во всех конфликтах (это видно на примере Ирака).
Общий тезис этого мифа, в котором сходятся многие и «правые», и «левые», гласит, что черносотенство — движение расистское, которое стало предшественником фашизма. Так, например, можно прочесть, что черносотенство — «расистский национализм протонацистского толка, вышедший на поверхность политической жизни России в самом начале XX века». И далее: «Не вызывает сомнения, что русское черносотенство удобрило почву, вскормившую гитлеризм».
Это — одна из крупных акций по фальсификации истории. Но для нас важнее актуальные мифы периода современного кризиса.
Мифотворчество в период реформ
Перестройка стала открытой фазой дезинтеграции, почти разрушения целостной системы знания, необходимой и достаточной для выработки разумных решений в управлении общественными процессами. При этом возник когнитивный диссонанс, который выразился в двух происходящих совместно, но несовместимых процессах. С одной стороны, доминирующая часть обществоведов декларировала приверженность к крайнему рационализму (в варианте сциентизма), а с другой стороны — практиковала крайнее мифотворчество, т. е. сдвиг к алогичному мифологическому сознанию.
В базовый миф о государственности, созданный в период перестройки, входит целый свод антигосударственных мифов. Одним из них был миф об «административно-командной системе», о невероятно раздутой бюрократии СССР. Советское государство было представлено монстром — в противовес якобы «маленькому» либеральному государству. На деле именно либеральное государство («Левиафан») должно быть предельно бюрократизировано, это известно фактически и понятно логически, изложено в западной же политической философии. Ведь либерализм (экономическая свобода) по определению порождает множество функций, которых просто не было в советском (шире — традиционном) государстве. Например, США вынуждены держать огромную налоговую службу, которой вообще не было в СССР. Колоссальное число государственных служащих занимаются в рыночной экономике распределением всевозможных субсидий и дотаций, пропуская через себя огромный поток документов, которые нуждаются в перекрестной проверке.
Советская бюрократическая система была поразительно простой и малой по численности. Очень большая часть функций управления выполнялась на «молекулярном» уровне в сети общественных организаций (например, партийных). Огромное количество норм содержалось в обычном праве, авторитет которого поддерживался идеократическим государством.
Всего работников номенклатуры управленческого персонала (без аппарата общественных и кооперативных организаций) насчитывалось во всем СССР 14,5 млн человек (1985 г.). Из них 12,5 млн составляли управленческий персонал предприятий и организаций, которые действовали в сфере народного хозяйства. Так, например, в это число входили главные специалисты (0,9 млн человек), мастера (2,1 млн человек), счетно-бухгалтерский персонал (1,8 млн человек), инженеры, техники, архитекторы, механики, агрономы и ветврачи (2,1 млн человек) и т. д. Таким образом, численность чиновников, в строгом смысле слова, была очень невелика — 2 млн человек.
Что мы могли наблюдать после того, как советский тип государства был ликвидирован? Чиновничий аппарат и бюрократизация в РФ фантастически превысили то, чем возмущались в СССР. Наша гуманитарная интеллигенция не знает этого (или не хочет знать) из-за утраты способности к рефлексии — и миф не поколеблен. Тот факт, что постсоветское обществоведение не только не объясняет, но и активно уводит общественное внимание от патологической бюрократизации современной России как важного социального явления, говорит о глубоком кризисе сообщества обществоведов.
Проявлений этого мифотворчества во время кризиса было множество; здесь мы кратко рассмотрим лишь несколько типичных мифов, созданных как аргумент в пользу демонтажа советской системы хозяйства. Одним из основных, можно сказать, системообразующим мифом стало утверждение, будто советская экономика накануне перестройки находилась в состоянии смертельного кризиса. Разберем этот миф подробнее, тем более что он остается вполне актуальным.
Невозможно представить себе, чтобы масса образованных людей в 1989-1991 годы одобрила глубокую, катастрофическую реорганизацию всего народного хозяйства страны совсем без всяких аргументов. Однако аномалия в разработке и восприятии программы реформ, несомненно, имела место — аргументы реформаторов противоречили фактам и здравому смыслу. Элита экономистов, которая разрабатывала доктрину реформ, сдвинулась от рационального к мифологическому сознанию. О политических мотивах не говорим, это другая сторона проблемы.
Кредо реформаторов в 1980-е годы сводилось к следующему: «Советская система хозяйства улучшению не подлежит. Она должна быть срочно ликвидирована путем слома, поскольку неотвратимо катится к катастрофе, коллапсу».
В таком явном виде эта формула стала высказываться лишь после 1991 года, до этого в нее бы просто не поверили — настолько это не вязалось с тем, что мы видели вокруг себя в 1970-1980-е годы. Однако после 1991 года уверенность, что советская экономика с начала 1980-х годов катилась к катастрофе, стала превращаться в непререкаемую догму. В западной социальной философии этому явлению даже был присвоен термин — «ретроспективный детерминизм». Неизбежность, предсказанная задним числом!