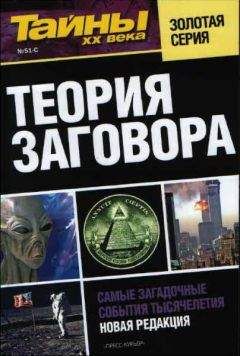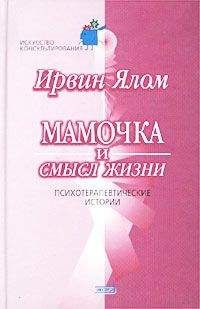Валентин Турчин - Инерция страха. Социализм и тоталитаризм
Интеграция целей в конечном счете требует одной Высшей Цели. Нет спора, привлечение широких масс к проблеме целей и будущего, содержащееся в проекте Тоффлера, — здоровая, жизненно важная в наше время идея. Но центральным моментом здесь должно быть понятие о Высшей Цели, что означает, по существу, создание религиозного движения.
Цели и планы обладают свойством образовывать иерархию и определяться сверху вниз: цели и планы низшего уровня определяются целями и планами высшего уровня, но никак не наоборот. Это, конечно, очень "не демократично", но что поделаешь, если такова их природа! Тоффлер, однако, не хочет с этим смириться. Одно из его самых тяжелых обвинений против технократов (о, несчастные технократы, они служат козлом отпущения всех грехов!) - что они планируют сверху вниз, а не снизу вверх: "Продолжение технократического определения целей сверху вниз приведет ко все большей и большей социальной нестабильности, все меньшему и меньшему контролю над силами перемен и все большей опасности человекоубийственного катаклизма".32 Это и есть источник нравственного пафоса тоффлеровского проекта, который он объявляет "захватывающим дух утверждением народной демократии"33 :цели здесь определяются снизу вверх, что только и может быть приемлемо для настоящих демократов, борцов против технократии, бюрократии, иерархии и прочих пережитков проклятого прошлого. Перед нами пример насилия политической идеологии над реальностью, воли над знанием. Советские люди знакомы со многими примерами этого явления. В Советском Союзе конформист выслуживается перед властью, на Западе — перед человеком массы: читателем, покупателем, избирателем. У нас он объявляет ключом к решению всех проблем марксизм-ленинизм, там - демократию.
"Демократия ожиданий" Тоффлера логически завершает его антиутопию. Если на протяжении девяти десятых книги мы только видели перед собой коловращение мира, лишенного Высшей Цели, то теперь мы получаем нечто вроде теоретического обоснования того, что Высшей Цели и не нужно, а нужно только собирать информацию о том, какие у людей есть цели. "Демократия ожиданий" — это равноправие целей, это антирелигия. Антиутопия Тоффлера — продукт его антирелигии. Одного только обстоятельства не учитывает автор "Футурошока": осуществимость этой утопии серьезнейшим образом зависит от соседей "постиндустриального общества". Ибо общество, в котором наиболее творческие умы заняты размытием границы между реальностью и иллюзией и обращаются за идеями к страницам маркиза де Сада, вряд ли сможет оказать сопротивление тоталитаризму.
Интересно отметить, что концепция Тоффлера, как и всякая концепция, лишенная понятия творчества, детерминистична. Он настойчиво говорит о необходимости изучения будущего — фразеология, которую я рассматриваю как совершенно неприемлемую. В одном месте он высказывается весьма решительно: "... пора стереть с лица Земли популярный миф, что будущее "непознаваемо"...."34 . Я же, напротив, выдвигаю лозунг: "Будущее непредсказуемо". Это расхождение, разумеется, относительно. Обе стороны в споре понимают, что предсказания будущего, во-первых, возможны, а во-вторых, всегда частичны. Различие состоит в том, какой из этих двух аспектов выдвигается на передний план. Тоффлер видит общество в свете индивидуализма. Каждый член общества руководствуется своими личными целями, находясь в определенных, общих для многих людей социальных условиях. По закону больших чисел, результат их совокупных действий может быть предсказан с большой точностью. Я же вижу общество как единое сверхсущество, способное к творческому акту,— метасистемному переходу. Результаты этого акта непредсказуемы, потому что метасистемный переход, в частности, включает в себя самоописание и самопознание; это значит, что все сделанные нами предсказания являются информацией, которую мы можем принять во внимание. (В математике это соответствует теореме Геделя и другим "отрицательным" результатам, о которых я упоминал в части 2.) Мы можем предсказывать будущее только на отрезках от одного метасистемного перехода до другого. Но именно в этих разрывах предсказуемости, в этих творческих актах я и вижу высшую прелесть жизни.
Советского читателя "Футурошока" не может не интересовать вопрос: является ли основная черта книги — удивительное, я бы сказал, уникальное отсутствие понятия о высших целях и ценностях - типичной для современного американца или же это специфическая черта автора? Тоффлер печатался во многих широко читаемых журналах. Можно предположить, что он знаком с образом мышления американской аудитории и в какой-то степени выражает его. Печально, если это так.
Деполитизация социализма
Я думаю, что западный мир может совладать с порожденным им же самим тоталитаризмом, только лишив его монополии на сознательную социальную интеграцию. Иначе говоря, тоталитаризм может быть побежден в конечном счете только социализмом. Я не имею в виду, разумеется, тех политических партий, которые в данный момент называют себя социалистическими или коммунистическими; я имею в виду социализм как явление культуры в том смысле, как я определил его во второй части книги.
Современный социализм как политическое явление не располагает к оптимизму. На правом фланге мы видим социал-демократов, для которых идея социальной интеграции ограничивается сферой финансово-экономической. Более привлекательного идеала, чем общество потребления, они предложить не могут. Радикальные социалисты на левом фланге сплошь мыслят в марксистских терминах, что делает их потенциальными или действительными разносчиками тоталитаризма, а не борцами с ним. Негативный элемент, по-видимому, преобладает над позитивным, борьба за власть преобладает над борьбой за идеи.
Интересно отметить, что коммунисты, в отличие от более умеренных социалистов и социал-демократов, в середине двадцатого века вдруг обнаружили сильную тенденцию к национализму. Коммунизм стал национальным — чтобы не сказать националистическим. Как это случилось? Ведь коммунисты считают себя самыми верными последователями Маркса, а Маркса можно обвинить в чем угодно, но только не в национализме.
Дело в том, что реальная сила, которая делала и делает коммунистов сильными, это интеграционизм, с вытекающей отсюда системой ценностей и акцентом на организации. Маркс и Энгельс в начале своей деятельности исходили из того, что пролетариат образует своеобразный всемирный народ, этнос. В этом смысле марксизм всегда был идеолдеолдеолнического единства. Однако двадцатый век показал со всей очевидностью, что человек гораздо охотнее думает о себе как о члене нации, чем как о члене класса. Деление на классы размылось, да оно и не было никогда столь четким, как деление на этнические группы. Двадцатый век стал веком национализма: после упадка великих религий нация оказалась единственной или во всяком случае, наиболее популярной основой интеграции. С некоторым запозданием это поняли и коммунисты. Этническая интеграция опирается на духовную культуру, а классовая — на материальный интерес. Этнос оказался сильнее класса, это еще раз подтверждает примат духовного начала в человеке. Не желая упустить своей питательной среды, коммунисты и другие радикальные социалисты стали соскальзывать в национализм.
Левые марксисты и сейчас, по-видимому, мало отличаются от большевиков-ленинцев, не зря они клянутся именем Ленина, а иные и Троцкого. Это означает, что от их прихода к власти надо ожидать того же, что мы видели в России от большевиков. Лешек Колаковский рассказывает о своем разговоре с одним латиноамериканским революционером. Речь зашла о пытках в Бразилии, "Я спросил, - пишет Колаковский, - а чем плохи пытки?" Он удивился: 'То есть как? Вы хотите сказать, что это нормально? Вы оправдываете пытки?" Я сказал: "Напротив, я просто спрашиваю, думаете ли вы, что пытки — чудовищное злодеяние, недопустимое морально?" "Конечно", — ответил он. "А пытки на Кубе?" "Ну, — ответил он, - это другое дело. Куба — маленькая страна, находящаяся под постоянной угрозой со стороны американского империализма. Они вынуждены использовать все средства самозащиты, как это ни прискорбно"...."35
Я вспомнил об этом эпизоде недавно, когда разговаривал с молодым англичанином, левым, но не коммунистом. Мы говорили об идее "исторического компромисса", только что высказанного Берлингуэром. "Как вы относитесь к коалиции между коммунистами и христианскими демократами?", — спросил я. Он задумался, потом ответил: "Такую коалицию можно рассматривать как положительное явление, если она позволит в дальнейшем сформировать чисто левое правительство, без христианских демократов".