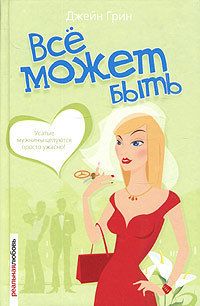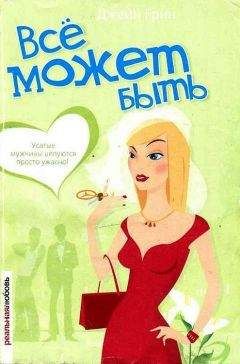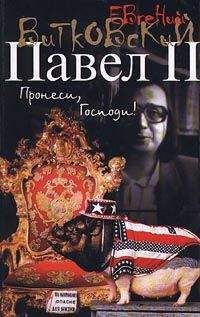Григорий Свирский - Ленинский тупик
— Тоню про-остить! Она не себе взяла. На общее дело!
Силантий потрясал руками, показывая на настенные электрические часы, на Тоню, которая сидела поджав ноги под стул, подмигивая знакомым шоферам. Из угла, где разместились шоферы, доносилось все громче и громче, наконец, всезаглушающим рыком:
— Пр-ростить!
Тетка Ульяна пыталась утихомирить зал. Принялась расспрашивать, не видели ли люди, кто украл на корпусе двадцатьчетверки…
— Как же не крали?! Что ж их, корова языком слизнула?
Огнежка подняла руку, чтоб разъяснить, что двадцатьчетверки увезли ночью, по распоряжению Инякина, в какой-то другой трест.
— Это именуется, Ульяна Анисимовна, не грабежом, а высоким стилем руководства, — едко разъяснила Огнежка.
Помянув ненавистное имя Инякина, она уже не могла остановиться.
Когда вернулась на свое место, кто-то вскричал диким голосом:
— Сами воруют, не оглядываясь. А как мы — тут же суд. Милиция… На себя взгляните!
Тут уж не только шоферы в углу зала, а почти весь клуб строителей.
Принялся скандировать, притопывая резиновыми сапогами, пудовыми, в глине, «танкетками» и стуча кулаками по спинкам кресел:
— Тоню про-стить! Про-стить! Про-стить!
В эту минуту возле дверей началось движение. Люди перед кем-то расступались. Наконец в проходе показался серый брезентовый плащ Чумакова. Чумаков протолкался к судейскому столу. Поднял руку. Шум постепенно стих.
— Вы что собрались?! Загрохотал его мощный голос. Не знаете, что ли, «Положения». Был МОЙ приказ созвать нынешний суд? Без моего приказа, по «Положению»…
— Нынче другое положение! — пробасили из зала.
— Другого «Положения» нет!
— Говорят тебе, нынче другое положение…
— Нет другого «Положения.
— Есть…
Чумаков сунул измятую брошюру в карман плаща, произнес с чувством превосходства, что гражданка Горчихина привлечена распоряжением прокуратуры к уголовной ответственности. Ударила прораба, хозяина украденных панелей.
— Мирволить хулиганам не позволим. Пережитки капитализма каленым железом, да! Все! Р-расходись!
На двери профсоюзного комитета — ПОСТРОЙКОМА был приколочен восьмидюймового плотницкими гвоздями кусок автомобильной покрышки. Серый, точно покрытый густым слоем пыли, со стертым до основания протектором, он был приспособлен вместо пружины.
От робкого толчка дверь постройкома не открывалась, и строители-новички, постучав два-три раза чаще всего поворачивали обратно.
На другой день после избрания в Постройком Нюра взяла перочинный нож, наточила лезвие о край подоконника и перерезала покрышку. Это был первый самостоятельный акт Нюры Староверовой как профсоюзного деятеля.
Дверь постройкома перестала выталкивать людей.
Нынче она и вовсе была распахнута настежь. И в коридоре и на лестнице слышался пропитой голос Чумакова:
— Без меня, значит, хозяевать мечтаете? А меня куда?
— В Магометы! — донесся возглас Александра.
Ермаков знал о предстоявшем открытом заседании Постройкома, но задержался в главке и вернулся в трест с опозданием. Сравнительно небольшим опозданием. Ермаков предполагал, что в его отсутствие успеют излить душу два, от силы три доморощенных оратора. Пускай даже они, прикидывал Ермаков, топают гуськом на красный свет, все равно он, управляющий, еще успеет образумить профсоюзных дальтоников.
Оторопь взяла Ермакова, когда он вошел в полутемный коридор треста. Коридор был набит людьми, как бывало в дни приема по квартирным делам. Прорабы, бригадиры, рабочие в черных кожухах или расстегнутых ватниках толпились возле дверей постройкома, и каждый из них, будь то старик прораб или краснощекая подсобница, тянул вверх руку. Тянул старательно, повыше, хотя наверняка знал, не мог не знать, что здесь считают только руки членов постройкома. Тетка Ульяна от усердия привстала на цыпочках. Тоня, которую оттеснили от дверей дальше всех, подняла сразу обе руки.
Когда Ермаков протиснулся наконец к накрытому кумачом столу, Нюра Староверова уже писала решение постройкома.
— «Чумакову, как не оправдавшему звание руководителя, — диктовала она самой себе, — единогласно выражается недоверие…»
Лишь после того как Нюра, которая председательствовала на нынешнем заседании (в постройкоме с недавних пор председательствовали по очереди), закончила писать, она обернулась Ермакову: — В чем дело, Сергей Сергеевич?
Но Сергей Сергеевич уже понял: атака в лоб бессмысленна. Он выждет, пока угаснет воинственный пыл, а тогда уж попытается прищемить хвост профсоюзникам, не впервой…
Он спрятал решение постройкома в нижний ящик своего письменного стола, в папку, на которой была наклеена пожелтелая от времени бумажка с лаконичной надписью: «В засол».
Спустя неделю к нему в кабинет вошла Нюра и спросила сурово, почему он игнорирует решение постройкома.
«Игнорирует…» Ермаков насупился. Откуда она слов таких понабралась?
Ермаков был человеком таланта многогранного. «И жнец, и хитрец и на нервах игрец», как говаривал о нем Акопян. Будь он не управляющим трестом, а, скажем, защитником по уголовным делам, не было бы среди уголовников человека популярнее его. Он быстро нарисовал Нюре устрашающую картину, которая предстанет перед очами строителей после изгнания Чумакова. Целые кварталы застройки начнут походить на руины. Да что там на руины! На деревню после недорода, в которой ставни забиты, двери заколочены досками крест-накрест. На десять верст окрест мерзость запустения и… никаких заработков.
Бас его звучал мрачно, пугающе искренне, но в нем проскальзывала и необычная для Ермакова просительная, с укором, нотка: «Тебе вручили вожжи — так ты из них первым делом петлю управляющему? Совесть-то у тебя есть?.»
Слова Ермакова вызвали у Нюры отклик, для него неожиданный, Нюра не возражала, удивленная его изворотливостью:
— Умеете!
Ермаков начал сердиться: — Давно не простаивала?! Давно тебя жареный петух не клевал?!
Нюра уже по опыту знала: коль дошло до жареного петуха, надо немедля приступать к делу. Она достала из картонной папки графики работы комплексной бригады и цифровые выкладки, которые вместе с Огнежкой подготовила к заседанию постройкома.
Графики выражали мысль, которая всегда приводила управляющего в ярость: «Чем лучше, тем хуже». Чем круче взмывала красная черта — производительность труда, тем быстрее она обрывалась. Цифровые выкладки были не менее выразительны. Пять миллионов кирпичей полагается тресту на квартал. Четыре миллиона сгрузили. Семьсот тысяч подвезут. Триста тысяч повисли в воздухе. Их придется «выбивать». Чумакова, по сути дела, держат из-за этих трехсот тысяч кирпичей… Ермаков смахнул документы в ящик стола нарочито небрежным жестом, как сор.
— Считать научилась! А кто мне даст эти триста тысяч? Ты, что ль, в подоле принесешь?
— Принесу!
Ермаков оторопело взглянул на нее. Подумал с удивлением, в котором проглядывала гордость:
«А ведь принесет. А?..»
Когда Нюра ушла, он достал пропыленную папку с наклейкой «В засол», повертел ее в руках, положил обратно. Медлил… дожидаясь звонка из райкома или горкома партии. Если Нюре и ее профсоюзным дружкам и впрямь, а не ради талды-балды, надели боксерские перчатки, оттуда позвонят. Поправят…
И все же он ощущал себя так, словно бы его стреножили. Ни взбрыкни, ни скакни в сторону. Он обгрыз конец карандаша, увидев Нюрину резолюцию на своем приказе о премиях: «На стройке говорят — премия у нас сгорает в верхних слоях атмосферы. Постройком категорически, против…» Нюрина резолюция была начертана сверху приказа крупным, ученическим почерком. Попробуй-ка не заметь!..
Ермаков швырнул свой приказ в корзину для бумаг, вскричав:
— Скоро заставят шлейф за Нюркой таскать!
В тот же день, вечером, его охватили совсем иные чувства. Их пробудил женский голос, повторив дважды, нарочито значительным тоном:
— С вами будет говорить Инякин.»
— Ну и что? — перебил Ермаков с деланным равнодушием.
Негодующий инякинский бас загудел из трубки грохотом дальнего обвала. И раньше-то он не очень пугал Ермакова, этот обвал, но никогда еще Ермаков не испытывал чувства внутренней свободы и неуязвимости так обостренно, как в эту минуту.
Ермаков еще не вполне осознавал, что именно питало это чувство. Как-то непривычно было думать, что его уверенность на этот раз порождена не чьей-то поддержкой сверху, а своим, доморощенным постройкомом.
В Ермакове шевельнулось что-то от мальчишки, который, схватившись за материн подол, показывает своим недругам язык.
— Не предвидели, Зот Иванович. В постройкоме ныне новый дух. Не отбились на выборах от радикальных элементов, выпустили, так сказать, духа из бутылки. А дух возьми и Чумакова в шею… Совершенно с вами согласен. Но они тычут мне в нос «Правдой».. Говорят! Мол, мы с вами сдерживаем рост политического сознания на уровне нулевого цикла… И я им то же, что вы: «Стенки возводите, руками шевелите. Чем быстрее, тем лучше. Но головы от кладки не подымайте, на нас, руководителей стройки не оглядывайтесь. Не ваше это собачье дело!..»