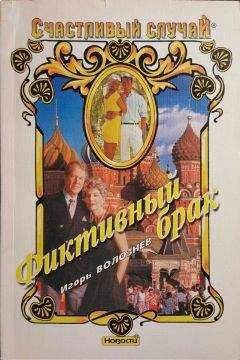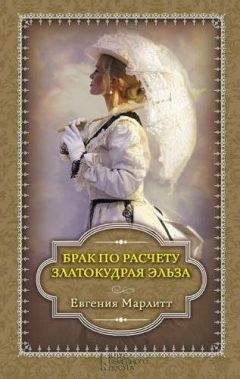Василий Шульгин - Три столицы
Наконец мне посчастливилось найти парикмахера. Дело в том, что сегодня был понедельник, то есть выходной день у парикмахеров. А потому все парикмахерские, работающие наемными мастерами, были закрыты и тогда, когда другие магазины открылись. И только одного удалось мне найти, маленького парикмахера, который работал сам от себя, без мастеров. Он держал половину комнаты. А другую занимал часовщик. Вот к этому парикмахеру я и ввалился со своими чемоданами. Сказал ему:
— Вот, знаете, я из провинции приехал. Зарос совсем.
Постригите, пожалуйста, и бородку сделайте этак получше.
Он усадил меня и не без удовольствия стал проектировать:
— Так как вы голову — машинкой, не правда ли, то мы и на щеки сделаем, как бы продолжение, — машинкой спустим. А тут (он показал на подбородок) сделаем бородку, такую остренькую. Вам должно пойти…
Я согласился.
И действительно, через десять минут я к своему собственному удивлению увидел в зеркале вместо не то раввина, не то факира, которым я был перед тем, довольно приличную физиономию с острой бородкой. Я напоминал петербургского чиновника прежних времен. Парикмахер очень радовался.
Я оставил у него свой чемодан и отправился еще постранствовать. Я зашел неподалеку в небольшой шляпный магазин, где увидел в окне ассортимент фуражек. Хозяин-еврей с услужливостью примерял мне всю эту компанию. Я остановился на фуражке синего сукна с желтым кожаным козырьком, которая, по его уверениям, была самая модная. Заплатил, кажется, четыре с половиной. Когда еврей заворачивал мне мою старую меховую шапку, я (так как я представлялся прежним) спросил, какая это улица. Он ответил:
— Какая это улица? Ну, так теперь она называется улица Горвица. Хорошо, пусть будет Горвица. Она есть Большая Житомирская.
Я шел по улице Горвица совсем преображенный. Приобрел величественность взгляда и уверенность в походке, ибо на моем лице уже ясно было написано, что я советский служащий, а вовсе не какой-то смелиняк из Гомель-Гомеля.
Очень спокойно я вошел, чтобы выпить чаю, в большую столовую, которая против бывшего участка. Впрочем, он и теперь участок, тогда был полицейский, а теперь милицейский. Разница несущественная.
Большая комната была густо уставлена столиками, покрытыми белой бумагой вместо скатертей. Так как час был сравнительно ранний и почти никого не было, то было еще чисто. Надо было подходить к стойке, платить в кассу деньги, затем получать, чего душа просит. Моя душа запросила чаю и пирожков с мясом. Съела два.
Но за чаем бес попутал. Я поступил в противность поговорке «от добра добра не ищут». Для вящей убедительности мне пришло в голову покрасить свою седую бородку. Тогда, мол, я потеряю уже все общие черты с тем стариком, который убегал от «черного пальта».
Я вернулся к своему парикмахеру. Сказал ему:
— Знаете, я ведь еще совсем не такой старый! Зачем я буду седую бороду таскать? Давайте покрасим ее!
Парикмахер засуетился.
— Я бы с удовольствием. Но как я не специалист, то у меня краски нет, и вам бы лучше обратиться…
И он стал рассказывать, что тут по соседству есть парикмахерская, большая, где красят на все фасоны…
Я пошел. Но «живописная мастерская» оказалась закрытой. Ибо, как большая и шикарная, она работала на наемном труде, на мастерских, а сегодня, как назло, был выходной день.
Но как иногда бывает, когда хочешь сделать глупость, нападает непонятное упрямство. Я опять вернулся к своему парикмахеру и говорю — «заперто». И требовал от него, чтобы он меня покрасил.
Он в конце концов согласился и сказал мне, чтобы я пошел в аптечный склад и купил «хны».
— Что такое «хна»?
— Это такое, чем дамы волосы моют. Порошок такой, — вроде. Вы так и спросите — «хна»!..
Я пошел. Заходил в разные аптечные магазины и аптеки, но нигде этой хны не было. Мне было крайне неловко. Почтенный советский служащий, с седой бородкой, и вдруг ищет какую-то дамскую хну. Поэтому каждый раз, когда мне говорили, что хны нет, я спрашивал, что это такое. И когда мне объяснили, что это дамское средство, чтобы краситься, то я неизменно ругал свою жену, возмущаясь, что она черт знает что поручает покупать. Наконец я в каком-то, на четвертой улице, аптечном магазине нашел хну. Спросили — сколько. Я сказал фунт. Оказалось, что этим можно выкрасить эскадрон.
Принес моему парикмахеру. Он взялся с готовностью, но если бы я не был так загипнотизирован своей мыслью покраситься, то заметил бы в нем некоторую дрожь. Во всяком случае, усадив меня в кресло перед зеркалом, он пошел за перегородку и там с женой кипятил хну. Время от времени он приходил и сообщал, что пробует хну на седой волос (мне почему-то казалось, что на конский, но я не знаю в точности, потому что дело было за занавеской) и что выходит хорошо.
Наконец приблизилась роковая минута. Он вышел с кастрюлечкой, в которой шевелилось нечто бурое. Это бурое он стал поспешно кисточкой наносить на мои усы и острую бородку. День был серый, кресло в глубине комнаты, и в зеркале было не особенно видно, как выходит. Намазавши все, он вдруг закричал:
— К умывальнику!
В его голосе была серьезная тревога. Я понял, что терять времени нельзя. Бросился к умывальнику.
Он пустил воду и кричал:
— Трите, трите!..
Я тер и мыл, поняв, что что-то случилось. Затем он сказал упавшим голосом:
— Довольно, больше не отмоете…
Я сказал отрывисто:
— Дайте зеркало…
И пошел к окну, где светло.
О, ужас!.. В маленьком зеркальце я увидел ярко освещенную красно-зеленую бородку…
Он подошел и сказал неуверенно:
— Кажется, ничего вышло?
Я ответил:
— Когда я пойду по улице, мальчишки будут кричать «крашеный»!
Он кротко и грустно согласился:
— Да, да, не особенно…
Но сейчас же оживился.
— Но я вам это поправлю!
И энергично послал мальчишку «за карандашом». Прошла минута, в течение которой часовщик, невозмутимо до той поры во время всей этой сцены крутивший какой-то механизм, обернулся на меня. Он вынул из глаза тот страшный инструмент, который часовщики в нем держат, и посмотрел на зеленую бороду. В этом взгляде я прочел окончательный ей приговор.
Вернулся мальчишка и принес обыкновенный карандаш. Парикмахер очинил его тщательно. Усадив меня снова перед зеркалом в кресло, в котором я чувствовал себя хуже, чем у дантиста, и взяв в левую руку гребешок, а в правую карандаш, он подхватывал на гребешке злосчастные волосы и тщательно растирал каждый волосок карандашом. По мере работы лицо его прояснялось, я же пока видел, что в зеркале борода темнела. Наконец он сказал-.
— Готово! Хорошо!
Я взял зеркало и пошел к окну.
Боже! Из зеленой она стала лиловой… лиловато-красной. Это был ужас.
Парикмахер говорил:
— Я всегда так дамам делаю…
Но то, что выходило у дам, не подходило к советскому чиновнику. Что было делать?
Единственный исход! Надо было сбрить к черту всю эту мазню. Я сказал коротко:
— Режьте…
Но он запротестовал:
— Ах, нет, не надо!.. Такая хорошая бородка вышла!
Жалко.
Я повторил мрачно:
— Режьте все…
— И усы?
— И усы…
Нельзя ж было оставить лиловые усы…
Машинка заиграла, и лиловые перья, как листья в сентябре, падали вниз.
Под эти les zanglots longs des viclons de Pautomne[30] я думал о том, что, черт возьми, мое положение становится опасным… Из зеркала появилось мое прежнее, подлинное, «эмиграционное» лицо. Теперь не дай Бог встретиться с кем-нибудь, кто меня видел за границей. Узнать не трудно. А фотографические карточки, как мне было известно, большевистские агенты украли у меня еще в Париже.
Когда все было кончено, парикмахер сказал:
— Как изменяет! Когда вы ко мне пришли сегодня утром, и теперь… Кто бы мог сказать, что это один человек?!
В его голосе слышалось неподдельное изумление. А для меня в этом апострофе было одновременно и утешение и сожаление. Утешение в том смысле, что черное пальто теперь меня ни за что не узнает, сожаление, что мне пришлось расстаться с великолепным гримом.
* * *Расстроенный парикмахер отказался взять с меня деньги. Я взял чемоданчики и, провожаемый взглядом часовщика, вышел на улицу.
Через несколько мгновений я почувствовал, что моя наружность еще более выиграла в смысле мимикричности. В витринах магазинов я видел явственного партийца. Бритого, в модной фуражке, в высоких сапогах. Оставалось только сделать лицо наглое и глаза импетуозные.
По-видимому, мне это удалось, потому что прохожие явственно уступали мне дорогу. А я шел на них, как будто бы это были не они, а воздух. Считать людей за пустое место, как известно, привилегия власти…
* * *Я отправился в адресный стол. Хотя я должен был через час уехать из Киева, но я хотел для верности узнать адрес Москвича. Неизвестно было, как в конце концов повернутся обстоятельства.