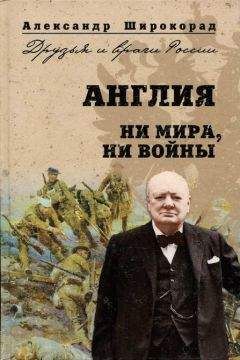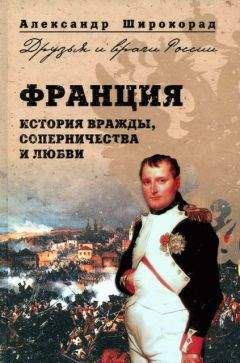Ганс-Петер Мартин - Западня глобализации: атака на процветание и демократию
В наши дни в Германии полный производственный цикл проходят только автомобили класса «люкс». Новый «фольксваген-поло», хоть и собирается в Вольфсбурге, более чем наполовину изготавливается за рубежом. Комплектующие для него поставляются из Чехии, Италии, Франции, Мексики и США[239]. Toyota уже производит за границей больше автомобилей, чем в Японии, а американская автомобильная индустрия уже не в состоянии обходиться без поставок от японских производителей[240]. Однако даже замена маркировки «сделано в Германии» на «сделано «Мерседесом» не дает подлинной картины. Под давлением конкуренции разработчики повсеместно осознали, что они сэкономят кучу денег, если отдельные компоненты будут производиться компаниями, работающими совместно. Вместо 100 различных типов минигенераторов в автомашинах всех германских производителей используется не более дюжины. Но интеграция и упрощение на этом не заканчиваются: Volvo использует дизельные двигатели Audi венгерского производства, Mercedes покупает шестицилиндровые двигатели для своего нового микроавтобуса «виано» у Volkswagen и даже аристократичная Rolls-Royce устанавливает в свои традиционные кузова «начинку» от BMW.
В то же время крупные корпорации непрерывно формируют альянсы, совместные предприятия и объединенные компании, максимизирующие прирост эффективности. Volkswagen совместно с Audi поглотила испанскую корпорацию Seat и лидера восточноевропейского рынка Skoda. BMW купила крупнейший британский автомобильный концерн Rover, a Ford поглотил Mazda, четвертого по величине производителя Японии. Завод к югу от Лиссабона, принадлежащий Ford и Volkswagen, изготавливает лимузины, продаваемые под двумя разными названиями: «форд-гэлэкси» и «фольксваген-шаран». То же самое делают Fiat и Peugeot. Малолитражки Chrysler, изготавливаемые в Таиланде компанией Mitsubishi, а в Нидерландах совместно Mitsubishi и Volvo, продаются в США под американской торговой маркой.
Так автомобильная промышленность плетет свою замысловатую всемирную паутину, подвижность и гибкость которой достойны ее продукции. Собственно производители — не более чем одна из расходных статей, бесправные пешки, которые можно в любой момент убрать с доски. Между 1991 и 1995 годами в автоиндустрии одной только Германии было ликвидировано более 300 000 рабочих мест, тогда как годовой объем производства оставался примерно на том же уровне. Конца этому не видно. «Мы планируем с настоящего времени по 2000 год ежегодно повышать эффективность на шесть-семь процентов, — сообщает шеф европейского отделения Ford Альберт Касперс. — Сегодня нам для производства «эскорта» требуется 25 часов. К 2000 году этот показатель должен быть снижен до 17,5 часов». Больше автомобилей, меньше рабочей силы — этот лозунг принят на вооружение и в Volkswagen. По словам финансового директора компании Бруно Адельта, ожидается, что всего за четыре следующих года производительность возрастет на 30% при ежегодной ликвидации от 7000 до 8000 рабочих мест. Совет директоров VW довел до сведения акционеров, что за тот же период доход с оборота увеличится в пять раз[241].
Потери рабочих мест из-за транснациональной интеграции вызывают немалую тревогу. Еще более тревожен, однако, тот факт, что попутно снижается действенность традиционных контрмер национальной социальной и экономической политики. До 1990-х годов ведущие экономики мира развивались разными путями. Япония культивировала принцип пожизненной занятости, и тяготы адаптации распределялись равномерно. Коллективная безопасность ценилась выше дохода на вложенный капитал не только в общественной шкале ценностей, но и в практике корпораций. Во Франции технократы проводили национальную промышленную политику, часто достигая выдающихся результатов, вследствие чего страна улучшила свои позиции в мировой экономике без снижения общего уровня жизни. Германия блистала высокоразвитой системой образования и тесной кооперацией между капиталом и трудом. Высокие стандарты технологии и рабочей силы наряду со здоровым социальным климатом восполняли потери в менее престижных секторах.
Сегодня все это, по-видимому, уже не имеет большого значения. Руководители японских фирм, словно копируя своих американских коллег, внезапно становятся приверженцами рационального управления и «аутсорсинга»[242]. Там, где к увольнениям все еще стараются не прибегать, сотрудникам урезают зарплату, понижают их в должности с тем же результатом или переводят в более мелкие подразделения и на временную работу, где те увольняются сами. Тем не менее прямое увольнение, именуемое в самурайском лексиконе «обезглавливанием», уже не является общественным табу. Поначалу ему подвергались только временные работники, незамужние женщины и молодой вспомогательный персонал, но теперь от него не застрахованы даже управленцы среднего звена с солидным стажем. «Раньше мы делили невзгоды поровну и полагались на правительство, — говорит Джиро Ушито, глава одной фирмы по производству электроники. — В дальнейшем будут применяться только правила рынка»[243]. Последствия этого власти до сих пор пытаются скрывать. Официально безработными числится не более 3,4% трудоспособного населения, но эта цифра — явная фикция. Всех, кто ищет работу свыше полугода, просто перестают регистрировать. Независимое исследование, проведенное в 1994 году министерством экономики, показывает, что если бы применялись американские методы регистрации (также не обеспечивающие абсолютной точности), то уже на тот момент показатель уровня безработицы равнялся бы 8,9%[244]. Сегодня, по оценкам критически настроенных аналитиков, работу ищет каждый десятый японец трудоспособного возраста. Правительство, когда-то стоявшее на страже социальной стабильности, ныне действует ей вопреки. Дерегулирование и либерализация торговли парализуют целые отрасли, и от прежних торговых излишков осталась лишь ничтожно малая часть. Тадаши Секидзава, председатель правления Fujitsu, дает этому простое объяснение: японская система «слишком далеко ушла от международного среднего уровня», и настало время перемен.
Тот же аргумент все чаще слышен на другой стороне планеты. Вот уже пять лет крупные французские корпорации планомерно сокращают персонал. Высокий уровень безработицы, более 12%, — не единственная проблема. Около 45% трудоустроенных вынуждены довольствоваться временными контрактами, не обеспечивающими защиты от необоснованного увольнения. В 1994 году число новых сотрудников, принятых на временной основе, составило 70%[245]. Транснациональный рынок подрывает основу силы профсоюзов, и те теряют своих членов, влияние и, что самое главное, перспективы. Этот происходит во всех странах ЕС, за исключением Великобритании, где уже в годы правления Тэтчер власти и работодатели общими усилиями низвели заработки и условия труда до уровня сегодняшней Португалии.
Наиболее радикальные системные изменения имеют место в богатой Германии. Весомое подтверждение этому исходит из правлений компаний самой прибыльной отрасли немецкой индустрии — химической. Три ее гиганта — Hoechst, Bayer и BASF — сообщили в 1995 году о самых высоких прибылях за всю историю их существования. Но одновременно они проводили в Германии дальнейшее сокращение штатов, урезав 150 000 рабочих мест в предыдущие годы. «Мы знаем, что люди находят это противоречивым», — признал шеф Bayer Манфред Шнайдер, добавив, однако, что высокие прибыли корпорации не должны заслонять тот факт, что «в Германии Bayer находится под давлением»[246].
Эти две короткие фразы со всей очевидностью объясняют позицию Шнайдера. Сегодня называть Bayer равно как и ее конкурентов германской компанией можно лишь по традиции и еще потому, что в этой стране находится ее штаб-квартира. Эти отпрыски IG-Farben уже в среднем 80% бизнеса делают за границей, и лишь треть их персонала работает в Германии. «Что же еще осталось немецкого в Hoechst? — вопрошает Юрген Дорманн, главный управляющий этого химического гиганта со штаб-квартирой во Франкфурте.— Наш крупнейший рынок — Соединенные Штаты, наш кувейтский акционер держит больше акций, чем все немецкие, вместе взятые, наши исследования носят международный характер». Германская же акционерная компания, не зарабатывающая никаких денег, по сути, бездействует. Возможно, это и преувеличение, но при сравнении головного офиса Hoechst с ее американским или азиатским подразделением оно напрашивается само собой. Дорманн, однако, тут же заявляет, что на Hoechst в Германии естественным образом возложена «социальная миссия, поскольку мы считаем себя в том числе и гражданами Германии». Только вот до сих пор «с патриотизмом слегка перебарщивали»[247].
Проблема социальной ответственности стоит не только перед Дорманном — такой роскоши не может позволить себе ни один управляющий высокого полета в глобально организованном бизнесе. Статья 14 Конституции Германии гласит, что «собственность обязывает» и «должна служить на благо всего общества», но большинству коллег Дорманна это кажется уже недостижимым. Управляющие, как это бывало раньше только в США, расчленяют компании на «центры прибыли», которые или добиваются максимальной доходности, или ликвидируются. Hoechst постепенно отходит от химического бизнеса, а в принадлежащей Bayer группе Agfa намечается реструктуризация, поскольку ее доходы составляют всего три процента от оборота. Таким образом, прежняя концепция немецких акционерных обществ (назовем ее «Дойчланд АГ[248]») распадается, и на смену ей приходит новая, совершенно другая корпоративная культура. Во множестве крупных немецких компаний ныне в ходу, так сказать, магическая формула — «интересы акционеров», означающая, по сути, не что иное, как максимизацию прибыли в интересах держателей акций. Та же цель легла в основу соглашения о слиянии, заключенного в мае 1996 года фармацевтическими гигантами Ciba-Geigy и Sandoz и вызвавшего протест со стороны многих швейцарцев, над которыми нависла угроза массового сокращения штатов. В дебатах по этому поводу принял участие даже архиепископ Венский Кристоф Шенборн, долгие годы преподававший во Фрибургском университете. «Если две из крупнейших в мире химических корпораций объединяются, — сказал он, — хотя дела у обеих и так идут превосходно, и при этом «высвобождают» 15 000 рабочих мест, то причиной тому является не необходимость, продиктованная всемогущим божеством «свободного рынка», а алчное стремление кучки людей к дивидендам»[249].