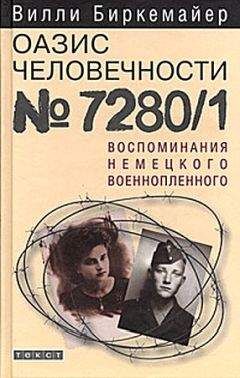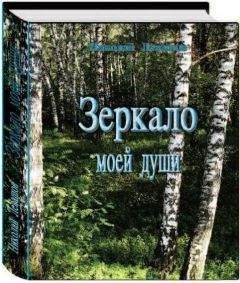Вилли Брандт - Воспоминания
Было бы ошибкой или самообманом делать из заявлений и решений держав-победительниц вывод, что они признают наше право на государственное единство. В действительности, возможно, и удалось бы изменить условия, если бы были образованы, как это первоначально предполагалось, центральные общегерманские департаменты во главе с немецкими статс-секретарями. Сперва это не удалось сделать из-за возражений Франции, а потом вопрос вообще отпал. После всего, что произошло, не следовало удивляться, что державы-победительницы использовали воссоединение лишь в качестве пропагандистской формулы.
Раньше, чем немцы, их соседи поняли: подчинение обоих немецких государств противостоящим друг другу союзам с их последующим вооружением и притязания на восстановление государственного единства нельзя привести к общему знаменателю, если, конечно, не делать ставку на «отбрасывание» в военной области. Но это, во-первых, было нереалистично, а во-вторых, не зависело от немцев. Исследование взаимосвязей, из которых можно было бы мирным путем извлечь какую-то пользу, тем не менее продолжает представлять определенный интерес. Но неуступчивость и ретивость могут здесь, конечно, лишь повредить.
История не знает последнего слова. Но нам — одним раньше, другим позже — пришлось осознать, что ремилитаризация и воссоединение друг друга исключают. Было ли это, как иногда говорят, собственно, платой за то зло, которое гитлеровская Германия причинила миру? Великая двойная иллюзия послевоенной истории Германии — о временном характере и о непродолжительности раздела — с этим совершенно не вяжется. Как известно, в рамках порядка, который мыслился как временное явление, немецкие заказчики, то есть главы земель, поручили в 1948 году Парламентскому совету разработать «Основной закон», а не «Конституцию», как это предусматривали оккупационные державы. То, что впоследствии из этого все же получилось больше, чем добивались одни и ожидали другие, соответствовало непредсказуемой логике развития. Нужно было осторожно переубедить военных губернаторов, считавших, что мир ждет именно «конституции». С немецкой стороны (причем это были не только консерваторы) также выдвигались возражения против «безответственного толкования понятия „временное состояние“».
Долгое время ссылками на основной закон объясняли наш долг добиваться воссоединения. В действительности в преамбуле речь идет об обязанности всего немецкого народа «завершить путем свободного самоопределения дело единства и свободы Германии». Это было чем-то иным и большим, нежели фикция. Ибо этим хотели сказать, что разделенный в результате развязанной Гитлером войны и оккупации немецкий народ составляет сообщество людей с общей судьбой, из которого вновь возникнет единое государство. Однако существовала значительная путаница в понятиях. Из единства сделали воссоединение. Как будто история и европейская действительность держали наготове привязку к империи Бисмарка. Или же как будто вся проблема сводилась к тому, каким образом может произойти или произойдет присоединение ГДР к Федеративной Республике? Даже Федеральный конституционный суд поддержал представление о том, что рейх лишь временно «недееспособен». А граница с ГДР в полном отрыве от реальности сравнивалась с границами между федеральными землями. Полтора года спустя суд осторожно скорректировал свою точку зрения.
Представление о том, что необходимо привести германский Запад в порядок и сделать его сильным, господствовало не только среди сторонников Конрада Аденауэра. Точки зрения расходились там, где речь шла о поиске конкретных шансов соединить обе части Германии как-то иначе, чем путем «аншлюса». Вместо анализа изменившихся реальностей мировой политики высоко ценилась фикция прошлой национальной политики. Теория о продолжающемся существовании германского рейха (мой друг Карло Шмид говорил об «общегерманской власти суверенного государства в Западной Германии») затруднила нам правильный подход к проблематике германского единства. «Холодная война» и ее последствия способствовали превращению вопроса о «воссоединении» в специфическую спасительную ложь второй германской республики.
В Федеративной Республике Германии о воссоединении больше говорили, чем думали. Или говорили одно, а думали другое. Мое собственное мнение было богато оттенками, о чем, однако, трудно было судить по тем расхожим формулировкам, которыми я открывал заседания берлинской палаты депутатов. Там я систематически призывал выразить «нашу непреклонную волю к свободному воссоединению Германии со своей столицей Берлином». Но в том, что «воссоединения» не будет, трудно было признаться даже самому себе, а тем более сделать это предметом публичного обсуждения. Споры по поводу политического курса Бонна, в которых никто не хотел уступать и которые больше напоминали словесную гражданскую войну, не позволяли все тщательно взвесить и обдумать. Так уж вышло, что во время «холодной войны» на дубинки спрос был выше, чем на лупы. Люди, призывавшие к терпению и вере, говорили в пустоту.
В дискуссиях тех лет, проходивших в тесном или очень тесном кругу, мы, конечно, обсуждали вопрос, каким образом Германия без ненужных ссылок на мнимые права или опасных расчетов на «отбрасывание» в военной области может вновь стать единой. Я уже давно сделал свой выбор в пользу Запада в смысле правового государства, демократической конституции, свободомыслия в культурном наследии и был готов уплатить за это соответствующую цену. Я давно питал надежду на то, что Европа объединится и станет источником политической силы, и почти не сомневался, что Сталину не удастся ни покорить Европу, ни определить будущее России. Я считал, что России придется сталкиваться и по возможности находить общий язык с Америкой, с Западной Европой, с новыми блоками государств в других частях света.
На дортмундском партсъезде СДПГ, первом после смерти Шумахера, это прозвучало следующим образом: «Мы ни в коем случае не поддерживаем любой проект, который выдают за „западный“, но я думаю, что мы всегда поддерживали и сегодня поддерживаем Запад в смысле свободы и человеческого достоинства. Мы также поддерживаем демократическую обороноспособность ради мира и свободы в этом пока далеко еще не миролюбивом мире». И далее: «Если мировая политика сегодня или завтра предоставит возможность воссоединить Германию на основе свободы, мы должны отнестись к этому положительно, даже в том случае, если такая свободно воссоединенная Германия — я хотел бы здесь добавить „к сожалению“ — не сможет быть в военно-политическом смысле составной частью Атлантического союза. Подобное уточнение вообще не имеет ничего общего с играми в нейтралитет, и я отрицательно отношусь к попыткам федерального правительства представить любое размышление о возможностях решения германской проблемы как проявление нейтралитета». В конце я призвал партию не поддаваться желанию «продолжать действовать по-старому, а там, где нужно, пересматривать, изменять и обновлять».
О восточной политике Германии на ранней стадии развития ФРГ, за исключением упоминания в подобных, в общем-то остававшихся незамеченными выступлениях, не могло быть и речи. Прошли годы, прежде чем стала допустимой и возможной новая германская внешняя политика. Впрочем, понятие «восточная политика» несло на себе бремя стольких предрассудков, что нужно было быть чертовски осмотрительным во избежание недоразумений. Во всяком случае, я и думать не мог, что немецкое слово «Ostpolitik»(восточная политика), так же как «Weltanschauung»(мировоззрение) и «Gemutlichkeit» (удобство), со временем войдет в другие языки.
Бремя предрассудков было следствием не только недавней кровавой бойни, но и наследия «доброго старого времени» с его грубыми манерами. И к этому еще добавился страх перед расплатой и ужас, связанный с особенностями советской оккупации. Даже если бы испарился весь яд нацистской пропаганды (чего не могло быть), страх перед русскими перерастал в дремучий антикоммунизм, ставший частью ранней западно-германской государственной доктрины.
Мы видели, что Потсдамская конференция, проходившая в конце лета 1945 года, не принесла ничего положительного. Правда, было записано, что Германия не должна быть разрушена и ей следует предоставить возможность «вернуться в круг цивилизованных наций». И что она будет рассматриваться как экономическое целое. Но предусмотренные для этой цели общегерманские центральные департаменты так и не были созданы.
Не было единства между державами-победительницами по вопросу о том, следует ли поддержать немцев в их стремлении снова жить в одном государстве? Еще в Ялте вся тройка, в том числе Сталин, была за раздел. Однако позднее Сталин предпочел, используя свой крупный военный успех, прибрать все, что можно, к рукам. Во всяком случае, было ясно, что восточная граница Германии не останется неизменной.