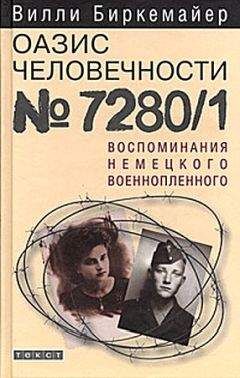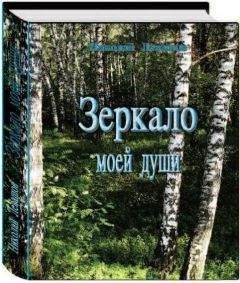Вилли Брандт - Воспоминания
Из Бремена я отправился через Франкфурт в Нюрнберг и, как и все аккредитованные корреспонденты, занял солдатскую койку во дворце династии карандашных королей Фабер-Кастелл. Процесс, который, несмотря на все его слабости, я считал полезным, начался 20 ноября 1945 года и закончился 1 октября 1946 года. Я неустанно писал, но несколько раз был готов последовать примеру того американского коллеги, который дал в свою газету следующую телеграмму: «Я больше не могу — нет слов». Выступления обвиняемых вызывали еще больший ужас. Только Альберт Шпеер признал свою ответственность. В своем последнем слове он немного объяснил действие механизма, превращающего технократа в орудие дьявола.
Ужасы, которые открылись в Нюрнберге, приводили даже самые сильные натуры на грань душевных потрясений — и более того. Но как иначе можно было заглянуть в будущее? Противоречия между западными державами и Советским Союзом бросали мрачную тень на ход процесса и приковывали к себе внимание наблюдателей. Что будет с немцами, если распадется антигитлеровская коалиция? В ту зиму я неоднократно убеждался в том, что они хотят работать, работать, чтобы выжить. Дадут ли им этот шанс? Или все-таки нужно рассчитывать на третью войну, о чем я в своего рода заклинании духов написал в Стокгольме? Наши «кровные интересы» требуют, писал я из Нюрнберга друзьям на Севере, чтобы мы воспрепятствовали такому развитию. К этому я добавил: односторонняя ориентация на Запад несовместима с восстановлением немецкого единства. Единое государство возникнет лишь после достижения взаимопонимания со всеми державами-победительницами. Была ли это тоже формула заклинания? Кто еще верил в единство союзников? Авторитет Советского Союза быстро упал. Среди населения нарастал получавший все новую пищу страх перед «русскими». Насильственное приобщение к коммунистической идеологии в их зоне оккупации не осталось скрытым от тех, у кого были глаза и уши. А затем борьба берлинских социал-демократов за свободу, за которой я наблюдал весной 1946 года и с возмущением, и с увлечением. Эта борьба оказалась весьма убедительным уроком послевоенной действительности.
А что предпримут Соединенные Штаты? Еще в 1944 году в своей книге «После победы» я заявил, что в Америке яснее всего определили, во имя чего ведется борьба против нацистской Германии. «Недопустимо, чтобы Америка ушла из Европы», — считал я. В течение долгих месяцев Нюрнберга перекрещивались многие линии, интеллектуальные и эмоциональные, преодоления прошлого и размышлений о будущем, политические и сугубо личные. Я ощущал свою тесную связь с Германией, гораздо более тесную, чем я мог об этом мечтать. Тем не менее той весной по поводу своего будущего — будет ли оно норвежским или немецким — я бы не стал заключать пари. Один норвежский друг, с которым я обменялся мнениями, предсказал, что я перееду в Берлин. Он меня слишком хорошо знал и мог себе представить, что без политики я не проживу. Заниматься политикой в Норвегии для меня, человека, родившегося не в этой стране, по идее, означало бы, что мне сперва надо было бы пожить несколько лет в деревне и побыть в шкуре крестьянина. Но и после этого я бы вряд ли достиг многого.
20 мая 1946 года я провел в Любеке собрание на тему «Мир и Германия». В Осло я сообщил, что меня очень тепло приветствовали, «а немецкие товарищи хотели бы, чтобы я туда приехал. Возможно, я так и поступлю». Летом я говорил по этому вопросу с Теодором Штельтцером, который пребывал теперь в Киле. Он хотел знать, можно ли на меня рассчитывать в Любеке. В этом случае он назначил бы исполняющего обязанности бургомистра Отто Пассарге начальником полиции земли Шлезвиг-Гольштейн. Любекские социал-демократы поехали в Ганновер, где Курт Шумахер вновь основал СДПГ и при поддержке верных помощников вывел ее железной рукой на правильный курс. Я сам побывал там в мае 1946 года на партийном съезде, однако не увидел для себя никакой перспективы и не почувствовал, что меня здесь ждут.
Было ли мое левосоциалистическое прошлое таким уж большим прегрешением? Вряд ли, так как другие члены бывших обособившихся групп уже давно пользовались уважением. Впрочем, Шумахера еще в 1945 году уполномочили заключить с тремя уклонистами — Отто Бреннером, Вилли Эйхлером и Эрвином Шеттле — соглашение, по которому членство в группах и в СРП засчитывалось в непрерывный стаж пребывания в социал-демократической партии. На самом деле никому и в голову не приходило использовать это прошлое как повод для колких замечаний. Между социал-демократами и коммунистами не было больше ничего общего и не существовало никаких иллюзий. Одни примкнули к тем, другие к этим, как, например, Якоб Вальхер, который еще в эмиграции в Америке избрал для себя Восток и вполне логично оказался в рядах СЕПГ. Он пытался уговорить и меня, но получил в первые же дни после советского насильственного объединения СДПГ и КПГ однозначный отказ. Решающим обстоятельством, писал я ему, является то, что «объединение было достигнуто недемократическими средствами, а частично даже насильственными методами». Основные демократические права и сама демократия в рабочем движении — это «не вопрос целесообразности. Это первоочередные принципиальные вопросы».
Итак, добродушные жители Любека хотели, чтобы руководство благословило «преемника Юлиуса Лебера». Лучше бы они этого не говорили. Лебер и Шумахер еще до 33-го года терпеть не могли друг друга. После войны оставшийся в живых кое-что предпринял для того, чтобы имя не побоявшегося смерти не упоминалось слишком часто. Курт Шумахер, отмеченный печатью мученичества, использовал как опору своей власти в партии то подавляющее большинство социал-демократов, которое в 1933 году заняло выжидательную позицию, не приспосабливалось, но и не бунтовало. Они не желали, чтобы им постоянно напоминали о героях Сопротивления. Тем более они не хотели понять, что кто-то мог искать союза с консервативными силами. Вмешался также Андреас Гайк, близкий друг Шумахера, энергичный обер-бургомистр Киля и шеф социал-демократов земли Шлезвиг-Гольштейн. Я слышал, как он сказал, что демократический социализм должен возродиться из нужды и страданий. Стоило ли удивляться, что наши приемники оказались настроенными на разные волны? Под конец моего тринадцатилетнего открытия мира я пришел к противоположному убеждению. А впрочем, мне было грустно. Ибо Любек казался мне теперь несколько провинциальным. Особого желания возвращаться туда не было.
Я объездил вдоль и поперек западные зоны оккупации. В Гейдельберге и в Бад-Наугейме я вел безрезультатные беседы с соответствующими должностными лицами. У меня произошла стычка с американским капитаном, занимавшимся подобными вопросами: я ему показался «чересчур правым». В Гамбурге в редакции «Эхо» я впервые встретился с Гербертом Венером. Предложение Хага Карлетона Грина, контролировавшего агентство ДПД (ставшее впоследствии ДПА), занять пост главного редактора дошло до меня лишь в октябре 1946 года, когда я уже вернулся в Осло и решил пока что остаться на службе у норвежцев в качестве пресс-атташе их посольства в Париже. Это мне предложил министр иностранных дел Хальвард Ланге. Я рассчитывал таким путем попасть в одну из международных организаций, полагая, что смогу быть там полезным одновременно моим обоим отечествам.
Когда в середине октября я зашел в министерство иностранных дел для выяснения кое-каких деталей, Ланге подготовил для меня сюрприз: он и премьер-министр Герхардсен передумали и решили послать меня не в Париж, а в Берлин. Им нужен был надежный человек, который бы постоянно держал их в курсе событий в Германии. Разве я мог колебаться? Ни одной минуты! Единственная загвоздка, если это можно так назвать, состояла в следующем: Норвегия имела в Берлине военную миссию, и мне надо было, даже в качестве пресс-атташе, получить «военно-гражданское» звание. На левом рукаве мундира, который я надевал в Берлине лишь в редких случаях, было написано «Civilian Officer». То, что я настоял на присвоении звания майора, а не, как предполагалось, капитана, было связано с категорией оклада.
Итак, на Рождество 1946 года я с дипломатическим паспортом в кармане тронулся в обратный путь. Он вел через Копенгаген, где я провел четырнадцать дней в ожидании британской въездной визы, Гамбург и далее в город, с которым я на двадцать долгих лет связал свою судьбу, — Берлин. За несколько недель до этого вернулся из турецкой эмиграции Эрнст Рейтер. Я встретился с ним весной 1947 года в доме Аннедоры Лебер в Целендорфе. По-моему, я предчувствовал, что это была жизненно важная встреча. Правда, это никак не было связано с приписываемой мне ориентацией на «духовных отцов».
Норвежская среда в Берлине была приятной, насколько это могло быть приятным в городе, переставшем в тот год быть столицей Германии. Я завязывал и расширял контакты, обзавелся друзьями, среди которых был и Эрнст Леммер, и посылал ежедневно сообщения в Осло. Повседневные дела и драматические новости сменяли друг друга. Это был мой конспект истории возникновения «холодной войны». В мою задачу входило также наблюдение за развитием событий на «другой стороне» и оказание помощи гостям из Норвегии. Так, весной 1947 года я сопровождал какого-то консервативного главного редактора из Осло к председателю СЕПГ Вильгельму Пику, который согласился дать ему интервью. Оно проходило очень скучно: Пик полностью подтвердил свою репутацию «коммунистического Гинденбурга». Но потом норвежец заговорил о концлагерях в советской зоне, которые якобы были «задействованы вновь», и заметил, что социал-демократы, противящиеся приобщению к господствующей там идеологии, попали в те же тюрьмы, в которых они сидели при нацистах. Пик не понял смысла вопроса и простонал: «Да если бы Вы знали, какие письма я получаю от товарищей, у которых исчезли сыновья. Но мы не в состоянии что-либо сделать. Все решают советские власти».