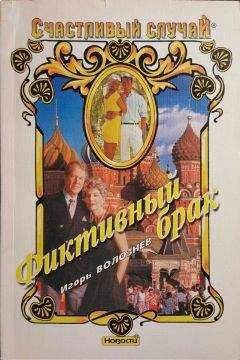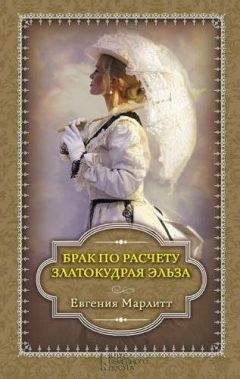Василий Шульгин - Три столицы
— Ну вот. Поэтому я и придаю такое значение этому вопросу, знают ли они гостиницу. Ибо то, что они следили за мной, еще ничего не доказывает. Они должны были бы следить и в том случае, если знают, где я живу. Психология-то о двух концах. Если знают, надо во что бы то ни стало скрыться. Иначе я замараю всех, к кому прикоснусь. Сейчас я чист, хотя и не без трудов, и нельзя допускать, чтобы они опять меня взяли под телескоп. Ведь верно?
— Абсолютно. Мы так и сделаем.
— Да, пожалуйста… Ибо я бы не хотел…
— Чего?
— Я не хотел бы
Утратить жизнь, и с нею честь…
Друзей с собой на плаху весть.
Над гробом слышать их проклятья…
Он рассмеялся, и пенсне блеснуло моноклем.
— «Проклятий», во всяком случае, не было бы. Мы здесь научились, наконец, понимать: «Один за всех, все за одного…»
* * *Так мы разговаривали и пили чай. Я, кроме того, ел скверное пирожное: во время горьких испытаний всегда хочется сладкого. И когда пишешь статьи. Деятельность тоже, как известно, не медом мазанная. Ты же стараешься, — тебя же ругают…
* * *Факт тот, что я тянул время до двенадцати часов ночи по двум причинам: во-первых, чтобы прийти в гостиницу попозже (легче выяснить, нет ли симпатичных личностей вокруг), а во-вторых, чтобы привести в норму свои нервы. Последнее же я мог сделать только путем последовательного размышления вслух, на основе перебирания всех возможностей.
Странное дело психика. У меня психика такая. Я волнуюсь, собственно говоря, не самой опасностью. Я волнуюсь ощущением, что я чего-то не додумал, что могло бы опасность устранить или уменьшить. Когда же я или «додумал», или события положили конец «думанью», то есть когда я так или иначе пошел навстречу опасности, я больше не волнуюсь. Что-то захлопывается, и я вообще уже мало доступен «чувствам». То есть, вернее сказать, все чувства сосредоточиваются на всякого вида внимании и на какой-то своеобразной решимости: из каждого факта, обнаруженного вниманием, сделать вывод и на вывод ответить действием. И насколько мучительна первая эпоха — «думанье», настолько же вторая лишена чувств: ни мучительности, ни приятности. Когда человек на чем-нибудь очень сосредоточивается, он не чувствует чувств.
* * *В двенадцать часов мы вышли из кофейной. На пустынной улице, где по искристому снегу вырисованы рисунки теней, я ждал его. Долго, показалось мне. Улица была пустынна, но все же гуляли парочки и изредка проходили люди. Я старался не обращать внимания. Самое лучшее (по обстановке) было изображать пьяного, которому нехорошо. Между двумя телефонными столбами я спрятался, и когда нужно было, плевал в снег. Воображаю, как гадко было любовничающим. А вот идите спать, нечего шляться по ночам.
* * *Наконец появилась высокая дендистская фигура, у которой пенсне блестело моноклем.
— Ну как?
— Все хорошо. Я обследовал тщательнейшим образом. Не только фас, но я сделал каре, кругом четыре улицы. Положительно, никого нет.
— Значит, я иду в гостиницу. Теперь о дальнейшем.
Мы условились. Дело в том, что ему нужно было ехать через четыре дня в Москву. Конечно, хорошо было бы ехать вместе. Но что мне делать эти четыре дня? Шататься по городу, как я делал все время, становилось небезопасным сейчас. И даже попросту опасным. Моя внешность, то есть мои приметы могли быть даны, да и черное пальто я мог встретить. Сидеть в гостинице? Очень хорошо бы некоторое время посидеть. Но не особенно ловко: приехал я, судя по паспорту, по делам казенного учреждения, значит, по утрам, по крайней мере, я должен «делать дело», а для этого надо выходить. А если я сам не выхожу, то ко мне должны заходить. Но ко мне ни один человек не заходит и не может зайти. И слава Богу. По крайней мере, если бы меня схватили и стали добиваться в гостинице, кто у меня бывал, то узнали бы, что ни одного человека не было. Как же быть?
Мы решили, что я притворюсь больным.
— И буду болеть ровно четыре дня. А потом — прямо на вокзал и уедем.
— Да. Только вы сейчас, когда войдете в гостиницу, дайте мне как-нибудь знать, что вы вошли благополучно.
— Вы опасаетесь внутренней засады?
— Нет, но на всякий случай.
— Хорошо. Мое окошко в третьем. Вы увидите с улицы свет, потому что я зажгу электричество. Если после этого свет потухнет и снова зажжется, значит, все хорошо. Если совсем не зажжется — плохо: значит, схватили меня в коридоре. Если зажжется, но не потухнет, чтобы снова зажечься, тоже плохо, значит, я не мог этого сделать. Если зажегся, а потом потух и больше не зажигается, значит, я в комнате еще свободен, но жду беды. Запомнили?
— Вполне. Если свет — плохо. Если мрак — тоже плохо. А хорошо только миганье… Понял. Я буду вас навещать каждый день два раза: днем ровно в час, а вечером ровно в девять я буду проходить мимо вашего окна. Днем сигнализировать буду я. Вы меня караульте из окна. Если у меня руки в кармане, значит, все благополучно: вокруг гостиницы никого незаметно и вообще все хорошо. Если руки не в кармане, — плохо. Значит, вокруг шныряют.
— Как же мне, в таком случае, поступить?
— Как? Пока отсиживаться… Может быть, они, ну, надоест им, уйдут. Я сейчас же вам сообщу, просигнализирую. Если нет и они будут сторожить, то одно из двух: или они сторожат вообще район, не зная, где именно вы живете, а значит, не знают и вашей фамилии; или же они все знают, но хотят выследить, что вы будете делать. В том и другом случае выгодно отсиживаться, выжидая минуты, когда можно выскользнуть. Ведь, наверное, будет такая минута. Не днем, так ночью. Когда-нибудь да зазеваются…
— Хорошо. Допустим, я выскользну. Что мне тогда делать?
— Тогда? Тогда, по-моему, лучше всего уехать.
— Куда?
— Все равно куда. Первым поездом, только вон из Киева. И затем на какой-нибудь большой станции ждите меня: дайте мне телеграмму.
— А как же телеграмму? Ведь я…
Он пришел мне на помощь:
— Не знаете моей фамилии и адреса? Но мы сделаем так. — Он дал мне указания.
— Хорошо. Еще что?
— Каждый вечер в девять часов я буду проходить второй раз, и вы мне сигнализируйте выключателем, что все благополучно. Хорошо?
— Есть! Теперь все?
— Все, кажется.
— Ну, идем…
* * *Не без трепета я позвонил в гостиницу. Через некоторое время за стеклом дверей (он не зажег свет внутри и чуть освещался уличным фонарем) появилась невероятная голова старика-номерного. Она была точно в перьях. Он отворил, впустил меня, получил двугривенный. Ничего не сказал. Предупредил бы он меня, если бы там ждали — на темной лестнице? Может быть, да. Он вряд ли на их стороне. Но, наверное, нет: побоялся бы. Об этом я думал, подымаясь ступеньку за ступенькой. Отчего так темно? Наверное, нарочно. Сейчас сверкнет электрический фонарик и уставится на меня в упор, ослепляя. И закричат: «Стой, руки вверх». Или просто схватят в темноте.
Прошел первый поворот — нет, ничего. Прошел площадку — тоже ничего. Зашел на вторую, тут уже свет из моего коридора. Другой номерной спит на диване. Он не спал бы так спокойно, если бы была засада. Вошел в коридор. Все тихо. Теперь…
Теперь последнее испытание: войти в номер. Как я не догадался: если меня ждут, то, конечно, в моем номере. Я вложил ключ, повернул, открыл. Заглянул в комнату. Голубоватый свет падал через окно от уличного фонаря.
Нет, никого нет. Впрочем, я так и думал, что никого нет. (Так всегда «думается» — потом.)
Я подошел к окну. Я искал знакомую высокую фигуру на противоположной стороне улицы. Но не увидел. Он был слишком осторожен. Я чувствовал и был совершенно убежден, что он в эту минуту напряженно всматривается в окна моего этажа, ожидая сигнала. Но где он может быть? Он, вероятно, там, в этой подворотне, что смотрит темной пастью напротив.
Я опустил матерчатую, достаточно прозрачную штору. На всякий случай, — чтобы меня не увидели из окон дома, что напротив. Почем я знаю! Может быть, та женщина, которую я несколько раз наблюдал, когда у них светло, за самоваром, сейчас прилипла к темному окну. Зачем ей знать, что против нее живет высокий старик с седой бородой.
Опустив штору, я зажег свет. Потом опять потушил, потом снова зажег. Я почти чувствовал, как мой сигнал воспринялся там в темноте. Белая штора на окне не была бездушная: она как-то одобрительно мягко белела складками. Сквозь нее я почти видел выражение его лица: на нем была довольная, тонкая полуулыбка. А теперь он, очевидно, выходит из подворотни и, блеснув стеклами во все стороны, быстро уходит по улице. Кому придет в голову, что он сейчас шапронировал в его логовище «опаснейшего революционера», «заграничного эмиссара»?
А интересный вопрос: являюсь ли я таковым в действительности? И да, и нет.
Я не опасен как «переворотчик» существующего строя. Что я могу перевернуть? Но я опасен как шпион Я подсматриваю жизнь, как она есть.