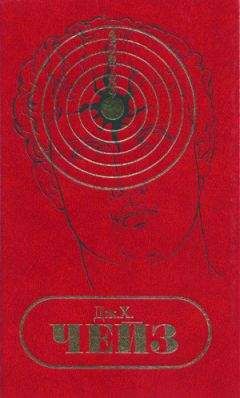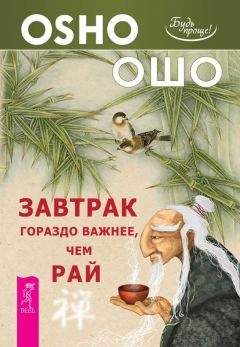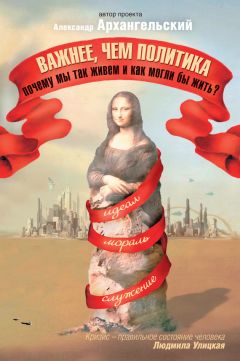Леонид Богданов - Телеграмма из Москвы
— За молодоженов!
— Ура!.. — выпили.
— За родителей!
— Ура! — выпили.
— За гостей!
— За отсутствующих!
— За всех присутствующих!
— Кушайте, куманек, холодец…
— Благодарствую…
— Горько!.. Горько!.. Горько!..
Молодожены нехотя встали и, смущаясь, словно это было впервые, поцеловались.
— Сладко!..
Справа от Столбышева сидел диакон, слева — дед Евсигней. На груди деда красовались два Георгиевских креста и одет он был в старый солдатский мундир.
— Вот это власть была, — говорил дед, накладывая в тарелку холодца, — пятьдесят лет мундиру, и хоть бы тебе что. Вы только пощупайте пальцами, — приставал он к Столбышеву, — как мясо сукно…
— Мда!.. Хороший материал…
— Еще бы, царский! — Дед многозначительно поднял палец. — Штаны лет пять назад протер. А вот мундир ношу и правнукам моим еще останется. Жили когда-то… Теперь что… Не жизнь, а тьфу!..
— А за что, того этого, Георгиев получили? — спросил Столбышев, чтобы переменить скользкую тему разговора.
Дед Евсигней подбодрился, лихо расправил усы, погладил бороду и начал:
— Георгиевский крест, это — боевое отличие. Вот теперь, например, за то, что корова хорошо доится, орден Ленина могут дать. Какой же это, извините за выражение, орден? Тьфу! Да и только. Солдатам его стыдно носить. Да я бы…
— Так за что же вам, дедушка, Георгиев, того этого, вручили?
— Было дело… Георгий — это, понимаете, крест, награда за храбрость перед лицом врага. На японской войне я получил. Этот вот — за спасение из плена их благородия штабс-капитана Дыркина. А вот этот — за то, что один приступом взял японскую пушку. Страшно вспомнить… Значит, Бог хранил, а то бы давно косточки в земле погнили. Помню, призывает меня к себе командир полка полковник их сиятельство князь Кираселидзе, из грузин, конечно…
— У них как есть три барана, так уже и князь! — пробасил диакон.
— Да, их сиятельство, значит, князь… И говорит он мне: «Ты, Петухов», — Это моя фамилия Петухов. — «Ты, — говорит, — Петухов — старый солдат и самого чорта обмануть можешь. Так выручь же, братец, из японского плена штабс-капитана Дыркина. Выручишь — Георгия получишь, погибнешь — так не даром, а за веру, царя и отечество». «Рад стараться!» — отвечаю я их сиятельству. «Молодец, — говорит, — Петухов! На тебе пять рублей на водку». Хороший был командир, царство ему небесное. И говорит дальше их сиятельство: «Мне на Дыркина наплевать. Не такие офицеры и солдаты-орлы головы складывают. А это пьянчуга и, вообще, никудышка. Но знает он много военных тайн, и хотя человек он преданный престолу и отечеству, но в пьяном виде и присяга не помогает: все расскажет неприятелю. Иди, орел-Петухов, и выручай». — «Рад стараться», — говорю и пошел. Страшно живому в плен идти, но что поделаешь, когда приказ военный…
— И придумал военную хитрость. Взял, значит, ружьишко землякам на сохранение отдал. Запасную пару портянок тоже отдал — поберегите, братцы, чтобы на трофей японцам не досталось, а ежели сложу свою голову, пользуйтесь на здоровье. Перекрестился и бросился я бежать к неприятельским окопам. Наши знай, вверх для вида постреливают. Бегу и кричу: «Банзай!» Это на их языке так «ура» называется. Прибежал. Обступили меня, маленькие такие, косоглазые. Соплей перешибить можно. А все же страшно, как не говори — неприятель! Они лопочут что-то по-своему, а я давай военную хитрость им подпускать. Я, говорю, люблю вашу микаду. Почему люблю, сам того не ведаю, но очень мне его личность симпатичная. Банзай, говорю, микада! Берите меня, я ваш… Смотрю, морды злые… Надо, думаю, подпустить больше. И давай им еще насчет микады. У меня, говорю, у самого, может быть японская кровь. У нас по деревням много китайцев путается, так может, того… Вы понимаете, куда я закручивал?.
Дед Евсигней многозначительно посмотрел на слушателей и продолжал:
— Помогла эта военная хитрость и заперли они меня в сарае. Смотрю, лежит на соломе их благородие штабс-капитан Дыркин и спит, как падаль. Ну, думаю, слава Богу. Потаскал я его за сапог малость, проснулись их благородие и давай кричать. Ух, и мастер же был кричать. «Ты, — кричит, — сукин сын Петухов, как смеешь меня будить?!» Я ему шепотом: «В плену мы, ваше благородие…» А он: «Молчать, свиное ухо! Стань во фронт и не смей при мне такие слова говорить! Какой такой плен, если я вижу нашу ротную кухню?!» И показывает пальцем в пустой угол сарая. Ну, думаю я, раз ты уже наяву ротную кухню видишь, так ничего не вспомнишь. Перекрестился я, да как трахну его благородие кулаком по голове. Он только квакнул, как жаба, и затих. Кулак у меня был, как вот то ведро, — дед показал на стоявшее около стола ведро с винегретом.
Потом посмотрел на свою иссохшую, всю в темно-синих жилах руку и закрутил головой:
— Ой! И кулачище же было… Ушли годочки, помирать скоро надо…
— Выпьем, дедушка? — предложил Столбышев.
Они выпили, закусили. Дед стряхнул с усов остатки кислой капусты и тихим голосом продолжал рассказ:
— Темно в сарае стало. Часовой японец около двери прохаживается. С наружной стороны, конечно. Слышно далеко собаки лают. Песни неприятель протяжные такие поет. И так мне страшно стало. Подлез я под бок их благородию и дрожу, как щенок осенью. Потом подумал: дрожи не дрожи, а выбираться надо. Подкрался к двери, прислушался: ходит япошка. То подойдет к двери, то отойдет. Ну, думаю, мать честная, помирать, так с треском. Да как ахну плечом в дверь. Дверь вылетела и придушил я ею японца, не пикнул. Освободил я из под двери его ружье, прихватил на плечо их благородие и бегом. Бегу, как попало. Думаю, попадусь, не попадусь. Тут долго рассуждать не приходится: война и все! Через версту, смотрю, — неприятельские окопы.
Стал я на четвереньки и пополз. А штабс-капитан Дыркин возьми да и приди в себя. Да так громко: «Ты куда, свиное ухо, меня несешь?!» Стукнул я его еще раз и дальше ползу, — дед заскреб обеими руками по столу и уперся хищным взглядом из под седых бровей в бутылку, — ползу… ползу… ползу… И вдруг прямо передо мной — неприятельский солдат, японец. Сидит в окопе и прижался головой к штыку. Страшный у них штык, как нож. Спит, наверное. Я его по голове кулаком — раз! Подобрал и его ружье. Перелез через окоп и потом бегом. Сзади стреляют, спереди — тоже. Пули только чирк, чирк, как пчелы. Не помню, как я добрался до своих. Но все с собой принес — и два японских ружья и их благородие в справности. И что же вы думаете, братцы мои? Меня наградили солдатским Георгием, а штабс-капитана Дыркина — офицерским Георгием, и обернулось все так, что он меня с плена вывел!..
— Оно всегда так, — авторитетно заметил диакон. — Помню, наступали мы на Берлин. Я сам — артиллерийский капитан запаса. И был как раз у меня в батарее замполит полка майор Барамович. А тут, где ни возьмись, двадцать немецких танков, вышли из-за пригорка и прямо на батарею. Господи благослови! Перекрестился я, но не успел дать команды, как майор Барамович закричал: «Вы, товарищи, здесь подержитесь, а я сбегаю за подкреплением!» И ходу, только пятки сверкают. Ну, думаю, иди себе с Богом. «Братцы, — глаголю я батарейцам, — уповайте на Господа Бога, якоже милости Его безграничны и без воли Его ни единый волос с головы не упадет. Помолимся же, православные, и воспрянем духом. Бронебойно-зажигательными по наступающим танкам противника, дистанция 800 метров, прямой наводкой батарей… Огонь!!!» И пошло, пошло. Сущий ад… Две пушки на батарее разбило, шесть убитых, другие все раненые. Но кое-как, с Божьей помощью, отбили танки. Четыре подожгли, остальные повернули назад. И что бы вы думали? — обратился диакон к Столбышеву, — мне орден Красного Знамени дали, а майору Барамовичу — Героя Советского Союза!
Столбышев пожал плечами:
— Несправедливо, конечно… Скажите, товарищ, — спросил он диакона, — а вы на самом деле в Бога веруете?
— С войны уверовал. Без Бога на войне нельзя. А вот и наш батюшка!..
Батюшку привели две старушки откуда-то из другого дома. Он ласково кивал головой во все стороны. Потом он посмотрел на стол и умиленно сложил руки:
— И чего только Господь Бог не сотворит? И кислое, и сладкое, и всяких фруктов и овощей…
— Мда! — неопределенно промычал Столбышев.
— Садитесь, батюшка, сюда, садитесь…
Батюшка сел и боязливо посмотрел на другой конец стола: там уже назревал скандал.
— Кум! Может вы не очень бы налегали? Еще рано, а вы уже лыка не вяжете!..
— Ничего!.. Горько!.
— Не кричите, кум, как свинья какая-нибудь. Может, молодые семейные дела обсуждают, а вы пристаете.
— Кто пристает?!
— Да вы же, кум, назюзюкались раньше всех и уже скандалите.
— Ах, так?! Нет моей ноги за этим столом!.. Пошел вон! Не хватай за рукав! Отойди, а то плохо будет!..
— Да что вы, куманек? Садитесь…
— Иех! — первые пуговицы брызнули с кумовского пиджака во все стороны, но драка не состоялась. Всему свой черед. Кума усадили, и он, горестно склонив голову на руки, просидел некоторое время в глубоком раздумье, а потом запел: