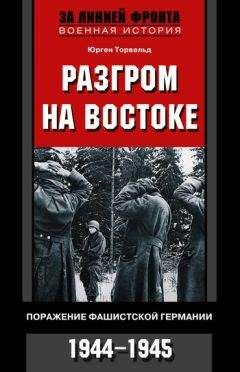Юрген Хабермас - Расколотый Запад
Предположение, согласно которому для удовлетворения потребности в легитимации транснациональной системы переговоров достаточно привязки к внутригосударственной легитимации правительств — участников переговоров, основывается на следующей предпосылке: конституции этой системы приспособлены для ограничения власти и выравнивания властных потенциалов. На этом транснациональном уровне великие державы тем быстрее реализуют ожидания, связанные с совместными и честными действиями, чем больше они будут идентифицировать себя (уже на супранациональном уровне) в качестве членов глобального сообщества государств. В этом качестве их должна воспринимать и общественность их собственных стран, от которой они получают свой легитимный статус. Однако возникает вопрос: разве не может за фасадом самой Всемирной организации скрываться все то же гегемониальное право сильнейшего (которое сегодня открыто признается в праве вето, которым обладают страны — постоянные члены Совета Безопасности)?
[Хауке] Брункхорст отвечает на этот вопрос, ссылаясь на компенсаторские функции мировой общественности; сегодня ее влияние возрастает, хотя бы в неформальном плане: «спонтанная активность относительно слабой общественности», которая «не имеет гарантированного организационно-правового доступа к объединяющим решениям», открывает по крайней мере путь для легитимации «слабого соединения дискуссии и решения»[102]. В нашем контексте речь идет не об эмпирическом вопросе, насколько сильное легитимационное давление мировая общественность, представленная СМИ и неправительственными организациями, мобилизованная социальными и политическими движениями, оказывает на политику ООН и решения международных судов. Нас больше интересует теоретический вопрос: может ли глобальное мнение, формируемое неформальной мировой общественностью, обеспечить мировому гражданскому обществу достаточную интеграцию, а Всемирной организации — достаточную легитимацию, если мировая общественность не имеет в своем распоряжении институционализированных конституционно-правовых путей перенесения коммуникативно произведенного влияния в сферу политической власти?
К счастью, препятствия, которые необходимо преодолеть для осуществления этих функциональных задач, не безмерно трудные. Если сообщество народов ограничивается деятельностью по обеспечению мира и защите прав человека, то солидарность граждан мира, в отличие от солидарности граждан государства, не нуждается в опоре на «сильные» нравственные установки, практики общей политической культуры и жизненных форм. Для солидарности граждан мира достаточно созвучия морального возмущения массовыми нарушениями прав человека и очевидным пренебрежением к запрету на агрессивные военные действия. Для объединения общества граждан мира достаточно единства чувства в негативных оценках массовой преступности. Однозначные негативные функции универсалистской этики справедливости — обязанность недопущения агрессивных войн и нарушений прав человека — задают в конечном счете и шкалу для правовых суждений международных судебных институтов и политических решений ООН. Эта база для правовых суждений, привязанная к общему культурному раскладу, не отличается широтой, но она способна нести нагрузку. В общем и целом этого достаточно, чтобы обозначить в мировом масштабе привязки нормативных установок к сферам деятельности сообщества государств и придать новым и новым спонтанным реакциям мировой общественности, многократно усиленным СМИ, силу легитимации.
9. Встречные тенденции
Кант разрабатывал свою идею о «состоянии вечного мира» как импликацию полного обретения международными отношениями статуса правовых форм. Те же самые принципы, которые впервые обрели форму в конституциях республиканских государств, должны структурировать и это всемирное гражданское состояние — т. е. гарантировать одинаковые гражданские права и права человека для каждого индивида. У Канта эта идея всемирного гражданского состояния получает свою конкретную форму в конституции мировой республики. Правда, Кант выражает беспокойство по поводу тенденции к уравнивающей, если не к деспотической власти, которая, по-видимому, присуща структуре мировой республики. Поэтому он обращается к суррогату союза народов. Если глобальный монополист на власть в лице все нивелирующего государства народов представляет собой единственную альтернативу сосуществованию суверенных государств, то, пожалуй, будет лучше, если идея всеобщего гражданского состояния найдет свое воплощение не в пространстве принудительного права, а в «слабой» форме добровольной ассоциации республик, придерживающихся политики мира. Я хочу показать, что альтернатива, которая вынуждает Канта сделать такой вывод, не полная. Если идею правового оформления естественного состояния [вражды] между государствами понимать достаточно абстрактно и не отягощать ее фальшивыми аналогиями, то понятийно возможна реализация еще одной, другой формы конституционализации международного права, дополненной либеральными, федералистскими и плюралистическими представлениями.
В этом направлении и развивается международное право в условиях сложно организованного мирового общества и сложной системы взаимозависимых государств, перед лицом изменившихся военных технологий и угроз безопасности жизни людей, а также являясь ответом на исторический и моральный опыт уничтожения евреев в Европе и другие эксцессы. Поэтому концептуальная возможность существования политической многоуровневой системы, которая как целое теряет качество «быть государством», не является просто спекулятивной фигурой мысли. В условиях этой системы на супранациональном уровне можно сохранять мир и обеспечивать права человека, не создавая ради достижения этих целей всемирного правительства, монополизирующего власть; на уровне транснациональном такая система позволяет решать проблемы мировой внутренней политики. И все же мучительное состояние нашего мира, охваченного насилием, дает повод осмеять эти «грёзы духовидца». Надо понять, что нормативно так хорошо обоснованная идея всемирного гражданского состояния остается пустым, даже вводящим в заблуждения обещанием, если она не дополняется реалистическим анализом контекста освоения встречных тенденций.
Кант осознавал эту ситуацию, и, хотя он придавал таким моральным положениям, как «не должно быть никакой войны», значение императива, а рассуждениям в плане истории философии — эвристические функции, он стремился обеспечить идее всемирного гражданского состояния достаточную степень эмпирической правдоподобности и убедительности. Встречные тенденции, которые он тогда диагностировал, были не только «идущими навстречу, любезными». Ретроспективно и готовность демократических государств жить в мире, и миротворческий потенциал всемирной торговли, и критическая функция общественности демонстрируют свою двойственность. В целом республики в отношениях между собой вели себя мирно, но обычно они не уступали военным устремлениям других государств. Освобождение капитализма от всех ограничений создавало немало поводов для беспокойства не только в империалистическую эпоху; границы модернизации определила недоразвитость тех стран, которые пострадали от модернизационных практик. А общественность, подчиненная влиянию электронных масс-медиа, в не меньшей степени служит делу манипулирования и навязывания определенных доктрин, чем просвещение (при этом частное телевидение все чаще берет на себя печальную роль лидера этих практик).
Если мы хотим воздать должное столь продолжительной актуальности кантовского проекта [вечного мира], мы должны отказаться от тех пристрастий, которые заполняют горизонт современности. Кант тоже принадлежал своей эпохе, следовательно, страдал определенным дальтонизмом.
— Канту чуждо историческое сознание, которое стало господствующим лишь к 1800 году, и он остался равнодушен к проблеме культурных различий, заостренной ранними романтиками. Например, Кант тотчас ставит под сомнение собственное указание на способность религиозных различий сеять рознь между народами замечанием о том, что существуют различные религиозные книги и исторически сформировавшиеся разновидности веры, «но только одна религия обязательна для всех людей и во все времена»[103].
— Канту был настолько близок дух абстрактного Просвещения, что он не осознал взрывной силы национализма. В то время политическое сознание этнической принадлежности к языковой общности или общности рода еще только формировалось; но уже в течение XIX столетия как национальное сознание оно не только опустошило Европу, но и стало существенным фактором империалистической динамики индустриальных держав, нацеливавшихся на заокеанские страны.