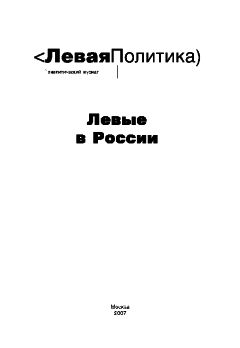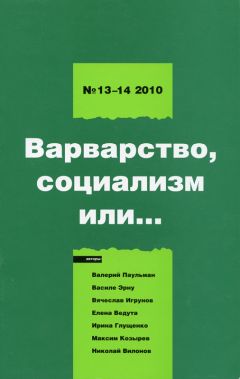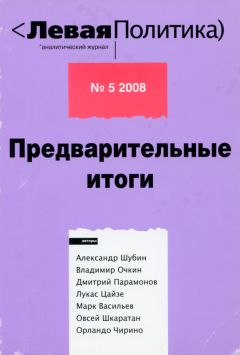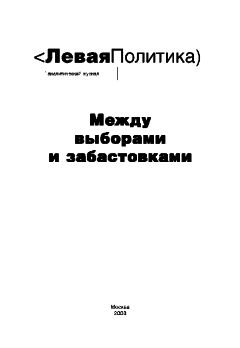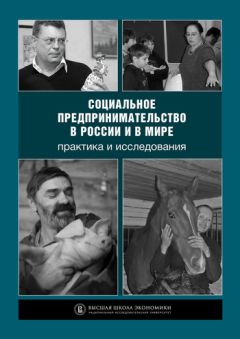Борис Кагарлицкий - Левая политика. Текущий момент.
Что же касается вовлеченности в рынок — то, как это ни банально, но жить в обществе и абсолютно игнорировать его законы — это инфантилизм. Конечно же, нужно понимать законы и механизмы этой среды. Более того, мне кажется, дистанцирование от них обедняет опыт, лишает критическое сознание материала для анализа и работы.
Самая главная проблема протестной культуры в том, что она не имеет внятную и доступно сформулированную — причём не только для других, для оппонентов, но и для себя — концепцию культуры и её места в обществе. На сегодняшний день она пассивно принимает навязываемое властью отождествление искусства с культурной индустрией, с рынком. В то время как — раз уж мы существуем в рыночном поле — необходимо и законодательство, которое бы поощряло частную инициативу в области культуры. Раз уж мы живём по этим законам, нужно создавать и налоговую систему, которая бы поощряла тех же самых вменяемых и культурно увлечённых людей со средствами к вложениям в современную культуру и интеллектуальное инновацию. И это у власти надо вырывать, это интересы которые надо лоббировать. Нельзя сказать, что эти соображения в российском обществе не высказываются, но только исходят они от либеральных публицистов и звучат как призывы к улучшению общества либерального капитализма. Левая культура должна перехватить здесь инициативу, исходя из другой концепции общества и системы культуры…
Наконец — и это самое принципиальное — в контрапункте с процессом приватизации публичной сферы левая культура должна настаивать на воссоздании коммерчески независимой сферы в области культуры, за восстановление понимания художественного производства как инновационного ресурса общества. Лозунг национализации сферы науки и культуры должен быть взят на вооружение нынешними левоориентированными политиками и общественными движениями. И, наконец, почему я не слышу требований общественного контроля над фондами культурой политики? То, что культурная бюрократия коррумпирована, то, что она ворует, то, что она аморальна, — это я слышу со всех сторон. Но почему я не слышу никаких конкретных идей и предложений: как должен развиваться диалог экспертного сообщества с властью, как это сообщество должно контролировать культурную политику и быть причастным к принятию государственных решений.
Этой социальной апатичностью критически мыслящее художественное сообщество ничем не отличается от рядовых постсоветских обывателей, так и не отошедших от травмы шоковой терапии, низведшей общество до «голой жизни», если воспользоваться термином Джорджо Агамбена.
То есть можно сказать, что эта этика художественного сообщества фактически тождественна этике общественного участия?
Недавно в беседе с Борисом Кагарлицким, записанной мной для «ХЖ», говорилось, что при всей апологии автономии искусства, с одной стороны, и при всей апологии критического суждения — с другой, колоссальная задача современной художественной культуры состоит в том, чтобы повернуться к публике и осознать себя полноценными участниками общественного процесса. И самая главная проблема состоит в том, что само гражданское долженствование художника, его гражданское бытование — всё это сейчас вообще не осознанно, не транслируется. Отсюда — и то, что различные полемические декларации, манифесты неприятия настоящего положения вещей, не имея чётко сформулированной гражданской и общественной перспективы, приобретают сугубо эстетический, персонажный характер. А пока даже самые социальные проекты художников типа Института Лифшица созданного Дмитрием Гутовым, не будучи встроенными в некую программу гражданского действия, лишаются своего реального смысла. Это низводит работу серьёзного и много понимающего в общественной жизни художника до статуса художнической абсцессии, в то время как по своему внутреннему ресурсу она таковой не является. И конечно, проблема состоит в том, что гражданская позиция не может быть сугубо персональной. Она всё равно формируется в ситуации, когда её носитель является частью сообщества единомышленников. Это сообщество уже существует: поддерживать его, относиться к нему бережно, воспитывать чувство солидарности и поддержки — это на сегодняшний не просто проблема тактики или даже стратегии, это проблема совести критически мыслящего деятеля культуры.
ЛЕВЫЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Латинская Америка: революция и интеграция
Александр Берегов
Идея политической и экономической интеграции стран Латинской Америки не нова — она существует ровно столько, сколько существуют сами эти страны. Самая первая попытка создания единого государства на территории Южной Америки принадлежала ещё Симону Боливару и, как известно из истории, окончилась неудачей. Освободившись от испанской колониальной зависимости, будущие страны Латинской Америки не спешили создавать совместное государство. Возобладавшие силы дезинтеграции разделили бывшие испанские колонии на ряд независимых государств, отношения между которыми не всегда оставались безоблачными. Одновременно с этим Латинская Америка попадала в сферу интересов США. На протяжении XIX–XX веков «северный сосед» стремился вытеснить с латиноамериканского континента своих европейских конкурентов (в первую очередь Великобританию) и одновременно создать подконтрольное себе объединение стран Южной и Центральной Америки. Окончательно эта задача была выполнена в промежутке между двумя мировыми войнами. Именно в это время Латинская Америка становится «задним двором» США, а американские монополии превращаются в полноправных хозяев континента. Однако революционные события 50-60-х годов бросают вызов гегемонии США на их «дворе», а начавшийся в 80-90-е годы процесс глобализации заставляет страны региона задуматься об интеграции для того, чтобы как минимум не ухудшить своего положения на мировом рынке. Пример Европейского Союза и процесс интеграции стран Азиатско-Тихоокеанского региона, с одной стороны, заставляет страны Латинской Америки вновь обратиться к идеям Боливара, а с другой — подталкивает США к тому, чтоб поставить процесс объединения под свой контроль.
От Вашингтонского консенсуса — к НАФТА и ФТАА80-е годы стали тяжёлым временем для экономики почти всех стран Латинской Америки. Промышленное производство не росло, зато росла инфляция, ухудшался жизненный уровень населения. Политика импортозамещающей индустриализации начала давать сбои. Именно в этот момент Вашингтон начал активную пропаганду идеи либерализации экономики стран Центральной и Южной Америки. Заручившись поддержкой некоторой части населения, правительства латиноамериканских стран одно за другим стали проводить неолиберальную программу, названную «Вашингтонским консенсусом». Меры, предложенные её разработчиком Дж. Вильямсоном из Института международной экономики, были просты: либерализация внешней торговли, снятие барьеров для иностранных капиталов, приватизация государственных предприятий, дерегулирование, сокращение государственных расходов на социальные нужды и т. д. В краткосрочной перспективе неолиберальные рецепты оздоровления экономики дали положительный результат. Инфляция была остановлена, укрепились местные валюты, наметился рост в экономике в целом. Однако головокружение от успехов прошло очень быстро. Уже с середины 90-х годов (то есть спустя 5 лет после начала реформ) континент начинают сотрясать финансово-экономические кризисы. В них оказались втянуты ведущие страны региона (Аргентина, Мексика). В целом политика Вашингтонского консенсуса привела к ещё большей зависимости латиноамериканских стран от экономики США и других ведущих капиталистических стран. Совокупный внешний долг стран Латинской Америки к 2002 году составил 800 млрд долларов, на его обслуживание уходила большая часть их и без того небольших бюджетов. Количество бедняков в регионе выросло до 220 млн человек, поляризация общества продолжалась. Единственной выигравшей стороной оказались американские транснациональные корпорации, получившие доступ на ранее закрытые для них рынки и сферы производства. В качестве примера можно привести деятельность американской энергетической компании «АЕС Корп.», которая скупила акции венесуэльской «Электрисидад де Каракас де Венесуэла», бразильской «Электропауло», чилийского конгломерата «Генер» и ряда других предприятий и теперь контролирует потребление электроэнергии почти 16 млн клиентов! Вместе с тем ведущие экономики региона Бразилия и Аргентина по-прежнему были не до конца подконтрольны США. Более того, возросла конкуренция со стороны европейских и японских компаний, также активно осваивавших латиноамериканский рынок, и наметился процесс интеграции стран региона без участия «северного соседа». Всё это заставило правительство и деловые круги США приступить к внедрению нового плана по созданию Панамериканской зоны свободной торговли. Пробным мячом для осуществления этой цели должна была стать Североамериканская зона свободной торговли (НАФТА). Первоначально договор должен был быть заключён между США и Канадой, чьи экономики и без того достаточно сильно интегрированы. Однако руководство соседней Мексики, экспорт которой на 80 % также был связан с Соединёнными Штатами, поспешило присоединиться к договору. Что и было осуществлено в декабре 1993 года. С самого начала США видели в НАФТА не только структуру, регулирующую экономические интересы, но и инструмент по созданию «сообщества демократий Западного полушария», то есть договор должен был стать ядром, вокруг которого консолидировались бы страны региона. Не откладывая дела в долгий ящик, в декабре 1994 года администрация Белого дома провела в Майами встречу в верхах, где должно было состояться обсуждение предложения США по созданию Панамериканской зоны свободной торговли (ФТАА). Проект, представленный США, получил на встрече одобрение большинства, но не всех представителей латиноамериканских стран. Итогом стало подписание декларации о намерениях по созданию зоны свободной торговли к 2005 году. Вместе с тем резко обозначились противоречия между латиноамериканскими странами. Те из них, что были привязаны к экономике США, с воодушевлением поддержали предложение Вашингтона (Мексика и страны Карибского региона — Доминиканская республика, Гондурас, Сальвадор). Гораздо более сдержанно на инициативу отреагировали Бразилия, Аргентина и Венесуэла. Двойственную позицию заняли Колумбия и Эквадор. К началу XXI века стали ясны и минусы НАФТА для Мексики. Бурного экономического роста после вступления в НАФТА не последовало, капиталовложения из США носят кратковременный характер, не были созданы новые рабочие места, растёт поляризация в обществе, резко ухудшились права трудящихся и профсоюзов. Всё это делает более очевидным подлинный смысл инициатив США. Мексиканские исследователи и авторы статьи «Семь мифов о НАФТА и три урока для Латинской Америки» пишут: «ФТАА… ускорит потерю суверенного контроля латиноамериканских стран над критически важными политическими инструментами формирования какой-либо стратегии развития».