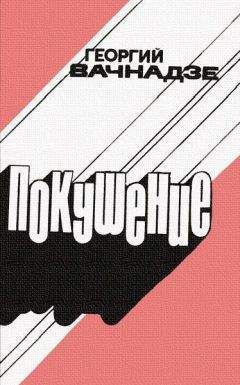Георгий Вачнадзе - Секреты прессы при Гобачеве и Ельцине
Внутренний цензор страшнее официального. С официальным можно спорить, доказывать, пойти на компромисс, пожаловаться его начальству. Хотя все эти меры обычно не давали результата. Внутренний цензор — твои собственные убеждения, воспитанные самой Системой. Приведу только один пример, хотя почти все двадцать пять лет работал я под неусыпным оком внутреннего цензора. Да так успешно работал, что не помню случая, чтобы пришлось вмешиваться Главлиту.
Итак, один пример. Весной 192 года в качестве специального корреспондента „Правды“ я отправился в Узбекистан сразу же после визита туда Брежнева. Мне предстояло рассказать, как с утроенной энергией бросились хлопкоробы выполнять указания Леонида Ильича. От тогдашних собкоров „Правды“ Мукимова и Гладкова я узнал подробности поездки „вождя“. Живую мумию возили по Ташкенту очень осторожно. Доставили, скажем, до порога лимонария — и тут же в резиденцию. Следующий раз повезли на авиазавод, но под тяжестью зевак рухнули в одном из цехов леса, и насмерть перепуганного генсека поскорее отправили в Москву. Но ведь у меня тогда не шевельнулось даже мысли как-то использовать эти факты в будущей корреспонденции.
Может быть, я все-таки более или менее объективно показал положение дел в хлопководческой отрасли? Скажем, о рабском труде и бесправии дехканина? Ничего подобного я и не помышлял. За неделю мне удалось лишь один раз подъехать к одному полю и в течение одной-двух минут поговорить с механизаторами. И то только благодаря моей настойчивости. Сопровождающие делали все, чтобы корреспондент не смог пообщаться с людьми. От застолья к застолью (слава богу, что я практически непьющий), от одной обкомовской дачи к другой. А для любой корреспонденции нужны цифры, факты, фамилии. Добывать все это в условиях той „экскурсии“ было делом крайне сложным. И когда материал увидел свет, я был горд в душе за себя, свой „профессионализм“, поскольку все-таки преодолел „трудности“ и подготовил такие заметки, которые были нужны редакции, — об энтузиазме хлопкоробов.
Конечно же, я понимал, что попал в средневековое байство, где партийная верхушка утопала в роскоши, а простой люд ютился в саманных развалинах. Встречи с Рашидовым, двумя Каримовыми — первыми секретарями Бухарского и Сурхандарьинского обкомов, Гаиповым — первым секретарем Кашкадарьинского обкома не оставили у меня сомнения в существовании хорошо организованной мафии, о которой я лишь догадывался. На обкомовских дачах-дворцах (резиденция бухарского эмира была скромнее) устраивались пьяные оргии Столы ломились от напитков и деликатесов. Произносились тосты, напыщенные речи. За столом — весь высший актив области.
О подробностях этого яркого путешествия я в деталях рассказывал друзьям, знакомым, коллегам. Но, разумеется, хоть как-то отразить их на страницах „Правды“ не собирался. Внутренний цензор был прав: такой материал никто бы не опубликовал. Даже после того, как оба Каримова благополучно „сели“, чтобы остаток жизни провести за решеткой, а Гаипов покончил с собой, когда пришли его брать. Но как нужно оболванить журналиста, чтобы он мирился с внутренним цензором считал его вторым „я“…
73 года народу подстригали мозги. Причем вокруг примитивной коммунистической демагогии создавался ореол многозначительности, мудрости, неописуемой глубины. Вспомним хотя бы полуграмотные, но произнесенные с толком, с чувством, с расстановкой речи Сталина. Или взять передовые „Правды“. Аппаратчики зачитывали их до дыр, полагая, что это указания руководства к действию, идущие от самых верхов.
Мне, написавшему десятков семь-восемь правдинских передовых, было смешно, как серьезно на местах воспринимали эти ценные партийные указания. Передовые писались практически всеми сотрудниками по очереди. Иногда в соавторстве с рядовыми аппаратчиками из ЦК, которые, кстати, почему-то не очень-то афишировали перед своим начальством причастность к авторству передовых.
Многозначительность достигалась шаблонностью и стереотипностью изложения очередных цековских постановлений. Набить руку на передовых было делом не хитрым. Я не застал в живых одного сотрудника, о котором и по сей день ходят в редакции легенды. Он писал передовую за два часа. Но обязательно, говорят, должен был принять изрядную дозу „бормотухи“. Судьба жестоко обошлась с ним. Его нашли мертвым у початой бутылки дешевого вина за столом, на котором лежала неоконченная передовая.
Но для меня освоить этот жанр оказалось делом непростым. Первую передовую, в которую я пытался вложить мысли, какие-то идеи, мне вернули с многочисленными пометками на полях. Учел замечания. Снова вернули. Приятель, видя мои „творческие“ муки, прочитал написанное и рассмеялся.
— Старик, твои „художества“ никому не нужны. Существует стереотип. В передовой „Правде“ — одиннадцать абзацев. Конечно, могут быть и исключения. Первый абзац — вступление к теме, второй — обязательно цитата вождя. Раньше Сталина цитировали. Говорят, он сам распорядился во втором абзаце приводить его мудрые афоризмы. Теперь надо цитировать Брежнева. Один абзац, желательно предпоследний — о роли партийных организаций.
Последовав совету друга, я тут же встал в сплоченные ряды „передовиков“ (так звали в шутку авторов передовых статей). Сегодня от всего этого становится жутко. Но ведь еще совсем недавно, уже в годы так называемой перестройки, едва „Правда“ перестала публиковать передовые, как на пленумах ЦК высокопоставленные аппаратчики, обкомовские начальнички ностальгически запричитали: как тяжело им без указующих передовиц. И при Афанасьеве на какое-то время их восстановили.
Сладострастным соловьем не был. Об опыте почти не писал. Большинство статей — проблемные, критические, даже очень критические. Другое дело, что до корней пороков не доходил, ибо подвергать сомнению истинность марксистского учения или пропагандировать частную собственность было равносильно сумасшествию. Это сегодня стало очевидно, что ничейность заводов, полей и ферм ввергла страну в пучину экономического краха. А еще лет пять-десять назад мы искали конкретных виновников — тех, кто не сумел мобилизовать, организовать трудовые коллективы на славные дела.
По мелочам можно было критиковать почти любого начальника. Критика такая в условиях тоталитарной системы — не что иное, как игра в видимость демократии. На серьезные критические статьи нужна „лицензия“ ЦК. Так, в 1983 году мне выдали ее для „разгрома“ Воронежского обкома партии. Чьим было указание, не знаю, но редактор отдела возил какому-то цековскому начальнику гранки, и тот попросил некоторые места даже усилить. Критика по тем временам была зубодробительной и с позиции сегодняшнего дня во многом справедливая. Но с выводами статьи „Непочтение к экономике“ я сейчас и сам не могу согласиться: обком и его секретари упрекались за недостаточное вмешательство в сельские дела.
„Лицензии“ выдавались на самом высоком уровне. Это льстило, щекотало самолюбие. Мне говорили: „Горбачев (тогда — член Политбюро) просил“. Или „Лигачев поручил“. И я, не задумываясь, бросался выполнять „ценные“ указания.
А если без „лицензии“? Тогда во всей красе предстает свобода печати и гласность по-партийному. Для меня, например, так и осталось тайной, по чьему заданию я летал в Волгоград в 1986 году, когда в статье „Иллюзия ускорения“ воздал должное методам руководства Калашникова. Как сейчас догадываюсь, „лицензии“ не было, а материал готовился, видимо, по инициативе главного редактора Афанасьева. Не странно ли: даже автор не знает, чью волю он исполнял? В „Правде“ многие вещи окружались дымом тайны.
Статья пошла в воскресенье, а в понедельник утром, едва я открыл кабинет, позвонил помощник главного и пригласил на ковер к Афанасьеву. Тот сказал, что уже дважды звонил крайне недовольный генсек и распекал за статью. „А как же гласность и ликвидация зон, закрытых для критики?“ — наивно спросил я Афанасьева. Тот кисло усмехнулся над простачком, махнул рукой, давая понять, аудиенция окончена.
Калашников прежде в Ставрополе работал под началом Горбачева. Вся редакция замерла в те дни, ожидая, чем кончится это одно из первых перестроечных испытаний для Горбачева. Защитит он „родного“ человека или действительно подтвердит, что зон, закрытых для критики, нет. На пленум Волгоградского обкома отправился секретарь ЦК Никонов. С его, надо понимать, благословения выступление „Правды“ заклеймили позором. Но, по сути, не опровергли ни одного факта. Да и сделать это было невозможно: вся цифирь была взята из данных статистики.
Я ждал отмщения. Но потрепали нервы, в основном, соавтору — собкору по Волгограду В.Степанову. Меня не тронули. Но несколько лет Волгоградская область вычеркивалась из передовых и обзоров. Калашников торжествовал: никогда еще ни один секретарь обкома не одерживал столь убедительной победы над „Правдой“. Торжествовал до тех пор, пока народ за развал экономики не добился его отставки. Но очень мил и люб был товарищ Калашников высшему руководству страны, если до последнего часа его прочили впервые заместители Председателя Совета Министров СССР. И только благоразумие парламента помешало этой акции.