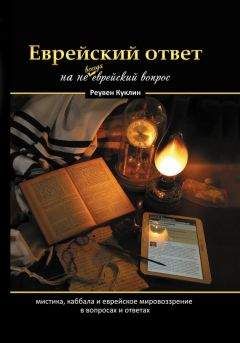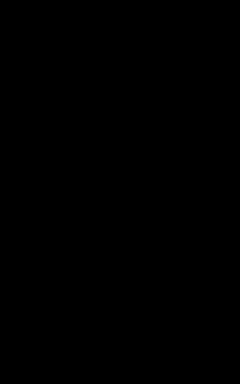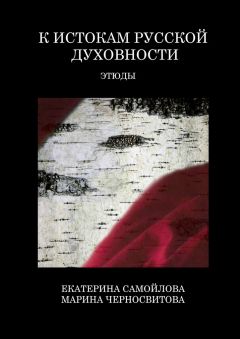Авигдор Эскин - Еврейский взгляд на русский вопрос
Эта концепция не может быть определена приемлемой для мыслящих эгалитарно и либерально. Она никоим образом не политкорректна. Но она отстоит на тысячи световых часов от того, что происходит в мутных животных душах инфернальников с облыжниками: кураевых с гельманами, прохановых с венедиктовыми.
Досадно, что некоторые свели это важнейшее обсуждение к избитой теме об «антисемитизме». Будто весь грех Кураева в «недолюбливании евреев». Не случайно мы сказали о ненависти к Израилю и к Творцу. Неспроста мы начали разговор с его черного богохульства ерничающего расстриги. Не над нами надругался он, ибо не наш он пасынок. Он попрал свои же основы веры.
Для несведущих. Вот с чего начинается православие: «Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым». Вчитаемся внимательно.
В одном из своих юдофобских словометаний Кураев обвинил иудеев в том, что отошли от библейского Бога, который был личностным Творцом и открывался патриархам. А иудеи сегодня признают Бога непостижимым и бесконечным (Эйн-Соф). Голова язычника не вмещает мысли о том, что непостижимый сущностно Бог открывается какой-то своей уменьшенной ипостасью Аврааму и каждому человеку, когда взывает к Нему. Основоположники Православия же понимали это так же, как и наши мудрецы. Посему учили верить в Бога «видимого и невидимого» – непостижимого сущностно, но открывающегося творению своими ипостасями.
Восприятие богословских идей Кураевым может послужить примером невозможности восприятия света Творца огрубленной душой. Но беда не в том, что есть огрубленные души в России, в Израиле или в Африке. Беда в том, что они норовят управлять мыслями и сердцами. «Земля трясется, аще раб воцарится, раба аще изженет госпожу свою» (Притчи 30:21–22).
Пока позволяем мы плебеям духа вещать и наущать, не будем удивляться новым наветам. Кровавым и фекальным.
Глава 7
К России с Галичем и Мирзаяном
«Поэт в России больше, чем поэт». Так говорят, так хочется нам верить, но много ли поэтов истинно дошли до нравственных высот иль до духовных? На кого не бросишь взгляд, обнаруживаешь избыток утонченной чувствительности к действительности, накал страстей и силу эмоционального выплеска, но тут же – слабость натуры, переменчивость, неиссякаемое самолюбование и захлест добрых порывов слепым себячеством. Не старцами были обычно поэты на Руси, а куда чаще – падшими в безверье, отчаяньем и мраком начиненными глашатаями тоски.
Но живет в нас на самых глубинных уровнях подсознания любовь непреложная и иррациональная к тому, что выплеснула на нас Россия за последние два века именно красотой художественного слова. И сами отделяем там весть от плевелов, привременное от вечного. Не пассивно вбираем слова, но участвуем в их наложении на наши души в эти дни, когда все вокруг гибнет в хаотическом смешении. И выходит, эти русские слова живут и пробуждают в ту пору, когда мир в погибели видим.
Сродственная мысль проходит красной нитью через профетическую Нобелевскую лекцию А.И. Солженицына: «Достоевский загадочно обронил однажды: «Мир спасет красота». Что это? Мне долго казалось – просто фраза. Как бы это возможно? Когда в кровожадной истории, кого и от чего спасала красота? Облагораживала, возвышала – да, но кого спасла?» И сам отвечает ниже: «Так может быть, это старое триединство Истины, Добра и Красоты – не просто парадная обветшалая формула, как казалось нам в пору нашей самонадеянной материалистической юности? Если вершины этих трех дерев сходятся, как утверждали исследователи, но слишком явные, слишком прямые поросли Истины и Добра задавлены, срублены, не пропускаются, – то может быть причудливые, непредсказуемые, неожидаемые поросли Красоты пробьются и взовьются в то же самое место, и так выполнят работу за всех трех? И тогда не обмолвкою, но пророчеством написано у Достоевского: «Мир спасет красота»? Ведь ему дано было многое видеть, озаряло его удивительно».
Солженицын писал, когда Россия находилась в давильных тисках коммунизма. В те дни голос добра и истины глушился еще на подступах к сердцам. Но неумельцами были кремлевские властолюбцы в сравнении с нынешними князьями мира. Эти пустили слова и информацию в таком множестве и в такой низости, что не найти человеку жемчужины в великом помойнике Великого Смешения, если он не готовил себя созерцанием, учением и борьбой к бытию «остатком Израиля». Интересно, что в Зоаре суть изгнания определяется как «изгнание слова». Не запрет даже и не заслон, а именно удешевление и девальвация слова. Говори сколько вздумается, все равно никто не услышит! Как беззвучный крик на картине Мунка.
И как прорваться, как донести слово духа и правды в пору убиения слова через его удешевление? Именно тут приходит нам на помощь красота, русская красота. Только чувственной насыщенностью и красотой мы можем пробиться сквозь губительную либеральную толщу. Разумеется, весть не только красотой формы и чувственным зарядом отлична быть должна от блевотных потоков современности. Она дойдет до сердец, если истинным духовным мессианским накалом исполнена будет. Но не в обычном богословском сжатии мысли, а облачении вершинных красот слова. Неспроста мудрецы Израиля именно Псалтирь выделяли мессианской книгой, а ведь именно она на Руси в основу созерцательной веры легла…
Ужель снова про град Китеж мы толкуем в надежде неиссякшей в грезах увидеть его? А что в нашем мире и при жизни нашей?
Болью и любовью Галич изошел, терзаясь этим вопросом:
«Что ни год – лихолетие,
Что ни враль, то Мессия!
Плачет тысячелетие
По России – Россия!
Выкликает проклятия…
А попробуй, спроси —
Да, была ль она, братие,
Эта Русь на Руси?
Эта – с щедрыми нивами,
Эта – в пене сирени,
Где родятся счастливыми
И отходят в смиреньи.
Где как лебеди девицы,
Где под ласковым небом
Каждый с каждым поделится
Божьим словом и хлебом.
…Листья падают с деревца
В безмятежные воды,
И звенят, как метелица,
Над землей хороводы.
А за прялкой беседы
На крыльце полосатом,
Старики-домоседы,
Знай, дымят самосадом.
Осень в золото набрана,
Как икона в оклад…
Значит, все это наврано,
Лишь бы в рифму да в лад?!
Чтоб, как птицы на дереве,
Затихали в грозу,
Чтоб не знали, но верили
И роняли слезу,
Чтоб начальничкам кланялись
За дареную пядь,
Чтоб грешили и каялись,
И грешили опять?..»
Сам Александр Галич шел по жизни спотыкаясь. Но в этих словах был он непревзойденно высок, ибо никто глубоко так Россию не понял и не прочувствовал:
«То ли сын, то ли пасынок,
То ли вор, то ли князь —
Разомлев от побасенок,
Тычешь каждого в грязь!
Переполнена скверною
От покрышки до дна…
Но ведь где-то, наверное,
Существует – Она?!
Та – с привольными нивами,
Та – в кипеньи сирени,
Где родятся счастливыми
И отходят в смиреньи…
Птица вещая, троечка,
Буйный свист под крылом!
Птица, искорка, точечка
В бездорожьи глухом.
Я молю тебя:
– Выдюжи!
Будь и в тленьи живой,
Чтоб хоть в сердце, как в Китеже,
Слышать благовест твой!..»
Вчитаемся и вслушаемся: не безверие и не отречение, а не знающий равных по силе гимн России и русской идее. Всему нынче зримому вопреки, но не слепой верой, а сиречь по силе той чувственной красоты, направленной к поискам истины, которая оказывается живее всех крушений и катастроф.
И с той же искренностью вспоминает Галич, как всматривался в «прекрасное в своем трагическом уродстве, залитое слезами лицо великого мудреца и актера Соломона Михайловича Михоэлса. В своем театральном кабинете за день до отъезда в Минск, где его убили, Соломон Михайлович показывал мне полученные им из Польши материалы – документы и фотографии о восстании в Варшавском гетто. Всхлипывая, он все перекладывал и перекладывал эти бумажки и фотографии на своем огромном столе, все перекладывал и перекладывал их с места на место, словно пытаясь найти какую-то ведомую только ему горестную гармонию.
Прощаясь, он задержал мою руку и тихо спросил:
– Ты не забудешь?
Я покачал головой.
– Не забывай, – настойчиво сказал Михоэлс, – никогда не забывай!
Я не забыл, Соломон Михайлович!
… Уходит наш поезд
в Освенцим,
Наш поезд уходит
в Освенцим —
Сегодня и ежедневно!
Как не разрывалось его сердце, когда он вел нас из разу в раз проплакать и проболеть самое страшное, что было с человеком на земле. Его дочь Алена как-то сказала мне, что если бы отец написал за всю свою жизнь одну лишь балладу о Януше Корчаке, то этого было бы достаточно. Никто так глубоко и полно не передал на русском языке трагедии еврейства двадцатого века, как Галич в своем монументальном памятнике Катастрофе. Он впитал в себя всю боль, затаенную в наших сердцах, боль памяти о родных, умерщвленных злодеями в лесах Белоруссии, Литвы и Украины. Это чувство сидит в нас так глубоко, что мы боимся выразить его, и только Галич сумел сделать это в полноте трагизма. Как сердце его не разорвалось от страданий, когда он доносил до нас образ девочки Нати из Дома сирот?!