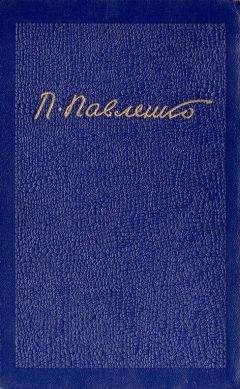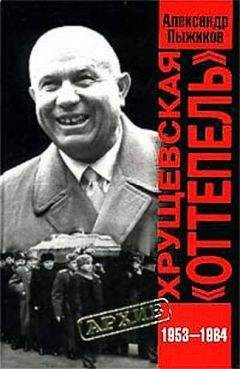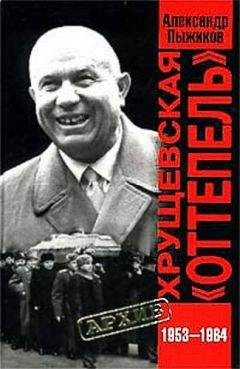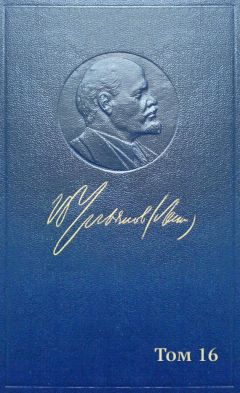Лев Вершинин - Россия против Запада. 1000-летняя война
Трофейная Германия
По сути, начиная с этого времени государства уже не было. Была пародия, усугубленная анархией. Ландтаги собирались, прерывались в связи с мордобоем и распускались, а через месяц все шло по новому кругу. Торговля сошла на нет в связи с грабежами на дорогах, а поскольку за бандами стояли местные лендлорды, жаловаться было некому. Уголовщина, крышуемая с самого верха, процветала и в городах, где стало опасно ходить даже днем, в сельской местности закона и правил не было вовсе, а жалобы в Варшаву, после первого раздела ушедшую в глухое пике, уже не помогали. А самое страшное, в ситуации форменного голодомора, впервые за пять веков взыграл инстинкт самосохранения у «туземцев», ранее смирных и совершенно незаметных: они не выдвигали никаких лозунгов, они просто толпами врывались в поместья, забивали палками всех, кто сопротивлялся, и растаскивали все съестное и не съестное, а бороться с ними было некому (прикормленные банды сами боялись озверевших крестьян), и ждать помощи тоже ниоткуда не приходилось.
В такой ситуации, когда герцогская власть формально была, но фактически не существовала, а в Варшаве о Курляндии просто-напросто забыли и вспоминать не хотели, дворянство края, по ходу склок, как-то незаметно задумалось о том, что с суверенитетом нужно кончать. Вопрос заключался только в том, как сделать это юридически красиво (тут всем было ясно, что следует дождаться конца Польши, который прогнозировали все), а главное, под кого лечь после того. Тут мнения, естественно, расходились: городские «нобили», мастера и торговцы, а также примерно две трети дворян победнее симпатизировали России, «магнаты» (27 семей) предпочитали слиться с родственной Пруссией. Однако в Берлине к идее отнеслись без ажиотажа. То есть против присоединения пары вкусных портов никто ничего против не имел, однако брать на себя заботы по восстановлению совершенно разрушенной экономики края хозяйственные «старшие братья» не намеревались категорически, разве что в случае, если Россия выдаст беспроцентный долгосрочный кредит. Россия же, со своей стороны, ничуть не возражала против ухода Митавы под Берлин, но оплачивать это удовольствие категорически отказывалась. И в конце концов, в очередной раз разбив лоб о берлинские стены, барон Отто Герман фон Ховен, бывший лидер «каролинцев», вождь «прусской» партии, потомственный враг Биронов и России, лично поехал к Екатерине, которую, в ходе аудиенции, умолял «пощадить и спасти Курляндию». На что Матушка в тот момент – лето 1792 года – не ответила ни «да», ни «нет», но былого врага обласкала и дала денег на восстановление хозяйства. После чего все сомнения «прусской» партии рассеялись, как роса на рассвете, и она перестала существовать, слившись с «российской».
А в январе 1795 года, когда, в связи упразднением Речи Посполитой, курляндский ландтаг освободил себя от присяги Польше, объявив о полной независимости герцогства, наступила развязка. Пышно отметив сбычу вековых мечт, господа делегаты при полном непротивлении сторон утвердили и обращение к Екатерине, «препоручая Ее Величеству дальнейшее устройство Курляндии и Земигалии таким образом, каким ей самой будет угодно». О живом и законном герцоге Петре не вспомнил никто, разве что два министра отказались подписать манифест, заявив, что полностью согласны со всеми принятыми решениями, но, будучи на государственной службе, хотят сохранить уважение его светлости. Объяснение было принято, герцогу, незадолго до того уехавшему в Петербург, направили курьера с сообщением, что отныне он – никто и может опять стать кем-то, только ежели в Петербурге так решат, и в Петербурге решили. В конце марта второй и последний Бирон был приглашен к императрице, спрошен, предпочтет он герцогство или деньги, выбрал деньги (очень большие), отрекся от титула и в августе навсегда покинул Курляндию, уехав в одно из своих саксонских имений. Матушка же, приняв в апреле присягу представителей курляндской элиты, милостиво указать соизволила, что население вновь учрежденного Курляндского наместничества обретает – «в соответствии с сословием» – все права дворянства и мещанства российского, сохранив за собой и все привилегии, ранее ему принадлежавшие. О латышах, конечно, не было ни слова – за отсутствием латышей, – но особая оговорка о «надобности впредь избегать тиранства над крестьянами под угрозой гнева Государыни» в одном из актов содержалась, и это был первый в истории документ, где вопрос о недопустимости превращения туземцев в скот хоть как-то поднимался.
Вот и все.
Но память обо всех этих событиях, в частности, разумеется, и о наглости «русских варваров», захвативших кусочек Европы и помешавших Европе разрастись на восток, никуда не девшись, легла в коллективное цивилизованное подсознание, стала основой для непреходящей неприязни. Хотя, следует отметить, на тему Курляндии, весьма пребыванием в составе Империи довольной, в XIX веке претензий России не предъявляли. Ее активно поругивали, а затем и хором осуждали – главным образом за «угнетение бедной Польши», по сей день считающееся показательным, можно сказать, хрестоматийным примером «русской агрессивности».
Глава X. Очень белый орел
Скажем сразу: изначально никто никого не тиранил. Воевали стародавние русичи со стародавними же ляхами еще во времена былинные, но по-соседски, даже, пожалуй, по-братски, как все тогда – за право рэкетировать порубежные области. Поляки, правда, аппетит имели покруче. Если русичи даже в периоды, когда Польша лежала в руинах (как было в конце XII века), а Русь, наоборот, сияла и порхала, ни на что, кроме десятка мелких городков, не претендовали, то польские братья при малейшей возможности добирались аж до Киева, как правило, по приглашению группы товарищей (в 1015 году – Святополка, в 1069 году – Изяслава), однако оба пытались задержаться навсегда, и выставлять «интернационалистов» русичам приходилось методами, далекими от политкорректности. Однако, повторюсь, все было в рамках правил. Тем более понять поляков можно: грабить хотелось, как всем, а шкала возможностей была обидно коротка: ежели русичи при желании могли хоть на Хазарию сходить, хоть аж на Царь-град, то Польшу с запада подпирали хмурые немцы, с юга – чехи, с немцами тесно повязанные, а с севера – вообще море. Да и позже особо делить полякам с Русью было нечего.
Зато Великое княжество Литовское (ВКЛ) – совсем иное дело. Если поляки от всех русских земель отщипнули близлежащую Галичину, успешно переварив которую дальше не двинулись (далеко и сил маловато), то ВКЛ (к собственно Литве имеющее отношение примерно такое же, как нынешняя Нормандия к викингам), наряду с Московией, оказалось одним из двух центров формирования русской государственности. И, натурально, конкурентом. А коль скоро так, то войны разгорались часто и с ожесточением тем большим, чем острее свежая, с пылу, с жару, «литвинская» элита ощущала потребность в самоидентификации. В смысле, чем больше хотела отличаться от восточных собратьев. Именно поиск самоидентификации в конце концов привел верхушку ВКЛ (мнение большинства населения мало кого волновало) к уходу из православия в католичество, а затем и к полной интеграции с элитой Польши. Впрочем, излагать подробности этого процесса не время и не место (кстати, нынче на Украине «верхи» при полном пренебрежении мнением «низов» идут тем же путем, что и пятьсот лет назад, – с той, правда, разницей, что сами далеко не Рюриковичи).
Главное для нас то, что к концу XVI века, точнее – в 1596 году, Польша съела Великое княжество. При полном непротивлении тамошних элит. Юридически, конечно, не совсем уж съела, но по факту – съела безусловно, став фундаментом и ведущей силой нового союзного государства – Ржеж Посполиты (РП). И помимо разных приятных преференций – ясен пень – унаследовала от него геополитическую концепцию. Однако с начала XVII века парадигма радикально изменилась. Если для ВКЛ речь шла о воссоединении русских (православных) земель, то в понимании Польши «натиск на Восток» был элементарной конкистой, по сути, мало чем отличавшейся от экспансии первых крестоносцев в Палестину или испанских идальго в Америку и точно так же оформленной идеологически (цели, как всегда, были вполне прозаическими, но официально маскировались заявлениями о необходимости обращения «схизматиков» в истинную веру и защиты Европы от «восточных варваров»), С этого момента противостояние стало, так сказать, мировоззренческим, а значит – непримиримым. К слову, этим и объясняется, в частности, продолжительность и ожесточенность «смутных времен» в России: Москва вполне готова была принять польского королевича в цари и пойти на объединение с РП, как наследницей ВКЛ, но не стать владением Польши, как «форпоста Европы»; Польша же, со своей стороны, рассматривала Московию как лакомый кусочек и неисчерпаемый ресурс наделов с крепостными для безземельных «младших сыновей». Так что поступок Сигизмунда, не отпустившего в Россию своего наследника, уже юридически объявленного царем, а самолично двинувшегося с войском на Москву был вполне закономерен.