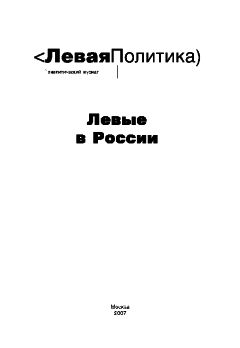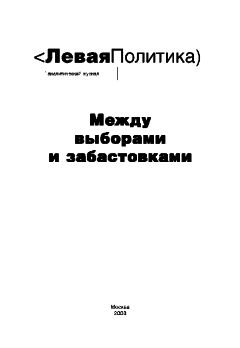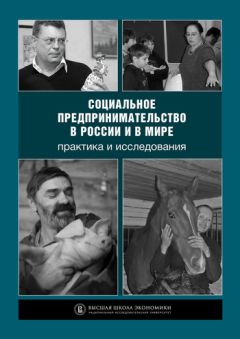Борис Кагарлицкий - Левая политика. Текущий момент.
Признавая невозможность воссоздания на имперском, европейском уровне демократии по типу национального государства, Бек и Гранде указывают, тем не менее, на пути демократизации «космополитической Европы». «Принцип интервенции» (поощрение прямого участия граждан в политических инициативах, а также инициированных снизу общеевропейских референдумов), «принцип включения» (возможности участия в политике для граждан и организаций неевропейских государств), «стратегии признания инаковости» (такие, как право «квалифицированного» вето и пр.) и «стратегии контроля» за бюрократическими структурами за счёт системы разделения властей.
Ряд европейских политических теоретиков противопоставляет «имперскую» логику США «республиканской» или попросту «этатистской» логике Европы. Они не согласны с историцистским тезисом авторов «Империи» об отмирании суверенного государства и переходе к новой, более прогрессивной имперской форме. Многие европейские авторы упрекают Негри и Хардта в скрытой апологетике американского империализма. С точки зрения этих европейцев, государство и суверенитет остаются важнейшими горизонтами современности, которые с самого начала противостояли имперской логике.
Бландин Кригель в своей недавней книге «Правовое государство или империя?»[25] выступает с консервативно-либеральных позиций и представляет новую историю как борьбу двух разнонаправленных принципов: империализма и этатизма. Кригель защищает идею государства, утверждая её республиканские корни. Теория республиканского происхождения государства, развиваемая в основном во Франции, противостоит попыткам немецких консерваторов XIX–XX веков вывести современное государство из имперского принципа. Вчера немцы, а сегодня англо-американцы ведут подрывную пропаганду и политику империи.
Но самое интересное — в философском обосновании Кригель противоречит между правовым государством и империей. Хотя обычно республиканизм, право Нового времени считаются торжеством освобождающейся субъективности от оков религии и тирании, Кригель, наоборот, рассматривает правовое государство как торжество естественного права, в духе Локка, а империю вместе с революцией относит к подрывному индивидуализму и субъективизму. Таким образом, она выворачивает тезис Негри и Хардта.
У нас в России, где сегодня доминируют консерваторы разных сортов, понятие империи применяется весьма активно — и по отношению к США, и по отношению к России. Уже упомянутый авантюристический индивидуализм общества, в совокупности с частыми ударами по престижу государства, подпитывает геополитические и историософские построения, не считающиеся со спецификой Нового времени, секуляризации, капитализма и т. д. Эти консервативные утопии пока более привлекательны у нас, чем утопия Негри и Хардта, — космополитический мир, лишённый исторической конкретности, но зато наполненный мистическим энтузиазмом. У большинства же вызывает отторжение вообще любая утопия — но с точкой зрения будущего теряется и способность к критическому анализу настоящего.
ЗаключениеВ целом, возвращение к вопросу об империи — о власти, о пространстве, о действии и об отчуждении — является важной тенденцией нашего времени. Как и сама империя, этот возврат не может быть буквальным консервативным откатом к «доброму старому» языку господства и насилия. Как «империя», так и «революция» формулируют историческую программу Нового времени: возрождение и открытие мира, любовь к дальнему и отдаление от себя. Сегодня вновь обостряется основное противоречие Нового времени. С одной стороны, эмансипация материального мира, его буржуазное одомашнивание и технический контроль. С другой стороны, открытие странного, бесчеловечного, чужого мира, вторжение в него, и его ответное вторжение в человека. Книга Негри и Хардта колеблется в зазоре между этими двумя парадигмами.
В связи с этим в книге проступает ведущая политико-практическая альтернатива революционных сил: предоставить наконец человеку свободу преобразования себя и мира или бороться с ним же самим ради его освобождения. Конечно, человек должен отдаться своему спонтанному могуществу. Но, во-первых, сосредоточено ли это могущество в нём самом или оно распределено между ним и теми внешними силами (другими людьми, мирами), которые наблюдают за ним и призывают выйти за собственные пределы? Во-вторых, можно ли построить общество на созидательной силе, не институционализовав его саморазрушительные тенденции (возможна ли вообще свободная сила без постоянной готовности отказаться от свободы)?
Негри и Хардт считают, что можно (занимая тем самым принципиально анархические позиции). Автор этой статьи считает по-другому, но он, бесспорно, солидарен с явственно выраженной в их книге волей — будить в людях те могучие силы, которые пока только шевелятся в них подобно сновидениям.
Текущий момент: социальный протест и перспективы антикапиталистических левых
Илья Будрайтскис, Мария Курзина
Язык радикальных левых в современной России — удивительно архаичное наречие. И дело не только в дурной, но отчасти извинительной привычке выражаться фразеологизмами, а в том, что за косностью языка стоит закостенелость понятий.
Стоит задуматься, что означает, например, такое словосочетание, как «работа в левой среде», и не является ли обозначенный им процесс технологией не объединения, а перераспределения ресурсов? А «работа с рабочими» или «с молодёжью», что это: развитие движения или его инструментализация, приспособление к задачам собственного воспроизводства? Отдельной строкой идут бесконечные обвинения окружающих в «реформизме», неотделимые от раздирания рубах по поводу собственной «революционности». Но приближаются ли авторы ли подобных опусов к пониманию, как и почему в этом конкретном обществе может и должна произойти революция? Ведь революцию делают не обстоятельства жизни людей, какими бы невыносимыми они ни были, а сами люди, существующие в этих обстоятельствах.
На наш взгляд, пора положить конец существованию левой мысли как индустрии готовых ответов, относящихся к категории продуктов с неуказанным сроком годности, к тому же не подлежащих обмену или возврату. Конечно, если воспринимать социалистическую организацию как безотходное и «эффективное» производство, вряд ли можно найти лучшую модель. Проблема лишь в том, что в реальности не существует соответствующего механизма производства штампованных вопросов. Чтобы найти в происходящих событиях своё место, сегодня важны фиксация и анализ текущего момента во всей его многозначности и противоречиях.
Точка отсчёта: профсоюзыНаиболее развитой и передовой частью социального движения в России на протяжении всех позднесоветских и послесоветских лет были и остаются профессиональные союзы. На сегодняшний день они являются также наиболее организованной и последовательной общественной силой, а их значение в последнее время быстро растёт. Однако попытка объективной оценки — даже количественной — масштаба и деятельности профсоюзов в России наталкивается на значительные трудности, в первую очередь методологического характера.
В экономике России занято около 69 млн человек, ещё около 5 млн являются безработными (в службах занятости зарегистрировано около полутора миллионов). Членами различных профсоюзных объединений являются, по собственным данным этих объединений, до 31,5 млн граждан РФ. Из них ФНПР объединяет 29 млн (92,1 % всех членов профсоюзов), Всероссийская конфедерация труда — до полутора миллионов (4,7 %), СОЦПРОФ — до пятисот тысяч (1,6 %), другие федерации и независимые объединения — ещё около полумиллиона (1,6 %).
Итак, профсоюзным движением охвачено до 42,5 % трудящихся России. Для сравнения: во Франции, Нидерландах и Испании эта цифра не превышает 15 %, в Германии, Швейцарии, Италии, Португалии, Австрии, Великобритании — составляет от 20 % до 40 %, в Норвегии, Бельгии, Дании, Швеции — от 50 % до 90 %. На первый взгляд, картина вполне утешительная. Однако на самом деле степень участия российских рабочих в профсоюзах стоит признать крайне низкой.
Дело в том, что мировое профсоюзное движение неоднородно. Существуют не просто серьёзные, но принципиальные различия в форме организации, практике, значении профсоюзной работы и членства. Малочисленные организации Франции и Испании являются авангардом рабочей борьбы, членство в них традиционно воспринимается почти как участие в политической организации. Зато влияние этих профсоюзов огромно, их мобилизационная и забастовочная способность простирается значительно шире их формальной членской базы. Степень охвата коллективной борьбой и коллективными соглашениями в этих странах достигает 70–90 % трудящихся. Одновременно существует «скандинавская» модель профсоюза: организация, которой в законодательном порядке предписана роль распределительного механизма «государства всеобщего благосостояния», многочисленная (поскольку от членства в профсоюзе зависит получение социальной защиты), с высокой степенью централизации, неповоротливая, редко идущая на открытые выступления, но имеющая прямое влияние на организацию производства.