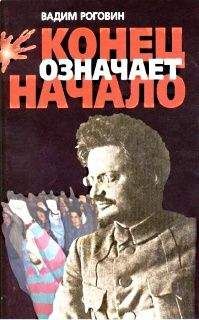Вадим Роговин - 1937
Хотя, по словам Шаламова, «в 1930 году троцкисты были уже не новость в лагерях. А в 1931-м — тем паче», их положение там ещё не было таким тяжёлым, как спустя 5—7 лет. В 1930 году Шаламов встретился в лагере с оппозиционером Блюменфельдом, осуждённым за участие в деятельности подпольного троцкистского центра и работавшим начальником планово-экономического отдела Вишерских лагерей. «По моему делу Блюменфельд от имени тогдашнего подполья дал торжественное заверение, что, если бы „мы знали, что хоть один оппозиционер получил лагерь, а не ссылку и не политизолятор, мы бы добились вашего освобождения. Тогда каторги нашему брату не давали. Вы — первый“.
— Какие же вы вожди,— сказал я,— что вы не знаете, где ваши люди.
Блюменфельд связывался, наверное, по своим каналам с москвичами — это не было трудно, чтобы установить, кто я такой» [899].
Осенью 1930 года Шаламов вместе с Блюменфельдом подали заявление в адрес правительства, в котором содержалась не просьба о прощении, а протест по поводу тяжёлого положения женщин в лагерях.
В 1931 году управление лагеря получило приказ заместителя председателя ОГПУ, в котором указывалось: всех заключённых, занимающих административные должности в лагере и не имеющих взысканий,— немедленно освободить с восстановлением во всех правах и с правом проживания по всей стране. Это была одна из лагерных «разгрузок», проводившихся в начале 30-х годов. В результате этой «разгрузки» Шаламов был досрочно освобождён. В 1932 году он вернулся в Москву и вплоть до 1937 года работал в качестве литератора и журналиста, опубликовав много очерков и рассказов в центральных газетах и журналах.
В эти годы Шаламов уже не принимал участия в оппозиционной деятельности. Никогда не будучи членом партии, он имел некоторые шансы избежать дальнейших репрессий. Однако по настоянию родственников он в 1936 году сам напомнил о своём оппозиционном прошлом, написав очередное заявление с отречением от «троцкизма». Вспоминая об этом событии, Шаламов писал, что его семья «в трудный момент предала меня с потрохами, хотя отлично знала, что, осуждая, толкая меня в яму, она гибнет и сама» [900].
12 января 1937 года Шаламов был вновь арестован в Москве и осуждён по статье «КРТД» на пять лет колымских лагерей. Спустя полгода его жена была сослана в Среднюю Азию.
В начале своего второго срока Шаламов ещё успел застать на Колыме «берзинские порядки». «Золотой прииск, куда мы приехали,— вспоминал он,— ещё жил прежней „счастливой“ жизнью. Прибывшим было выдано новое зимнее обмундирование… Медпункт пустовал. Новички даже не интересовались сим учреждением… Тяжёлая работа, зато можно заработать много — до десяти тысяч рублей в летний, сезонный месяц. Зимой поменьше. В большие холода — свыше 50 градусов — не работают. Летом работают десять часов с пересменкой раз в десять дней (зимой — 4—6 часов)». Медицинский осмотр разделил всех заключённых на четыре категории — здоровые, не вполне здоровые, способные к лёгкому физическому труду и инвалиды. Нормы заключённым устанавливались с учётом состояния здоровья [901].
В «Колымских рассказах» Шаламов, рассказывая о времени, когда начальником Дальстроя был старый большевик Э. П. Берзин, писал, что тогда практиковались «зачёты, позволявшие вернуться через два-три года десятилетникам. Отличное питание, одежда… Колоссальные заработки заключённым, позволявшие им помогать семьям и возвращаться после срока на материк обеспеченными людьми…
Тогдашние кладбища заключённых настолько малочисленны, что можно было думать, что колымчане — бессмертны.
Эти немногие годы —…„золотое время Колымы“» [902].
После ареста Берзина в середине 1937 года на Колыме всё разительно изменилось к худшему, в первую очередь для «литерников, обладателей самой опасной буквы „Т“». В их личных делах содержались «спецуказания»: «На время заключения лишить телеграфной и почтовой связи, использовать только на тяжёлых физических работах, доносить о поведении раз в квартал». Эти «спецуказания», подчёркивал Шаламов, «были приказом убить, не выпустить живым. Все „спецуказанцы“ знали, что этот листок папиросной бумаги обязывает всякое будущее начальство — от конвоира до начальника управления лагерями — следить, доносить, принимать меры, что если любой маленький начальник не будет активен в уничтожении тех, кто обладает „спецуказаниями“,— то на этого начальника донесут свои же товарищи, свои сослуживцы».
Едва ли где-либо пронзительней, чем в «Колымских рассказах», описана судьба «литерника», за которым «охотился весь конвой всех лагерей страны прошлого, настоящего и будущего — ни один начальник на свете не захотел бы проявить слабость в уничтожении такого „врага народа“».
Один из наиболее запоминающихся героев «Колымских рассказов» — оппозиционер Крист, судьба которого обнаруживает несомненное сходство с судьбой самого Шаламова. Получивший свой первый срок девятнадцатилетним, Крист «был приобщён к движению во всех картотеках Союза, и когда был сигнал к очередной травле, уехал на Колыму со смертным клеймом „КРТД“». Уберечься в лагере от участи, которую несла эта статья, было практически невозможно. «Буква „Т“ в литере Криста была меткой, тавром, приметой, по которой травили Криста много лет, не выпуская из ледяных золотых забоев на шестидесятиградусном колымском морозе. Убивая тяжёлой работой, непосильным лагерным трудом, ‹…› убивая побоями начальников, прикладами конвоиров, кулаками бригадиров, тычками парикмахеров, локтями товарищей». Бессчётное количество раз Кристу приходилось убеждаться, что «никакая другая статья уголовного кодекса так не опасна для государства, как его, Криста, литер с буквой „Т“. Ни измена Родине, ни террор, ни весь этот страшный букет пунктов пятьдесят восьмой статьи. Четырёхбуквенный литер Криста был приметой зверя, которого надо убить, которого приказано убить».
Крист внимательно следил за судьбой тех немногих, кто дожил до освобождения, «имея в прошлом тавро с буквой „Т“ в своём московском приговоре, в своём лагерном паспорте-формуляре, в своём личном деле». Он знал, что даже после истечения срока и выхода на свободу «всё будущее будет отравлено этой важной справкой о судимости, о статье, о литере „КРТД“. Этот литер закроет дорогу в любом будущем Криста, закроет на всю жизнь в любом месте страны, на любой работе. Эта буква не только лишает паспорта, но на вечные времена не даст устроиться на работу, на даст выехать с Колымы» [903].
Судьба носителей этого «литера» в лагерях служила серьёзным камнем преткновения для Солженицына, подчёркивавшего своё желание обойти эту тему в «Архипелаге ГУЛАГ». «Я пишу за Россию безъязыкую,— заявлял он,— и поэтому мало скажу о троцкистах: они все люди письменные, и кому удалось уцелеть, те уже наверное приготовили подробные мемуары и опишут свою драматическую эпопею полней и точней, чем смог бы я». Цинизм этого заявления может быть по достоинству оценён с учётом того, что Солженицын превосходно знал: из тысяч «кадровых», «неразоружившихся» троцкистов уцелеть удалось лишь считанным единицам. По этой причине среди сотен воспоминаний узников сталинских лагерей можно буквально по пальцам перечислить те, которые принадлежат «троцкистам».
Однако Солженицын, претендовавший на создание своего рода энциклопедии сталинского террора и осведомлённый относительно проникновения некоторых сведений о лагерной судьбе троцкистов за рубеж, всё же счёл нужным рассказать о троцкистах «кое-что для общей картины». Нигде этот писатель не противоречит самому себе больше, чем на тех нескольких страницах, которые он уделил повествованию о троцкистах. Замечая, что «во всяком случае, они были мужественные люди», он тут же добавлял к этой неоспоримой констатации традиционный антикоммунистический «прогноз задним числом»: «Опасаюсь, впрочем, что, придя к власти, они принесли бы нам безумие не лучшее, чем Сталин».
Столь же лишено всяких доказательств другое суждение Солженицына, следующее за его рассказом об организованности и взаимопомощи, которую троцкисты проявляли в борьбе со своими тюремщиками: «Такое впечатление (но не настаиваю), что в их политической „борьбе“ в лагерных условиях была излишняя суетливость (? — В. Р.), отчего появился оттенок трагического комизма». Снабдив этот пассаж оговорками («впечатление», «не настаиваю»), писатель далее в глумливой манере комментирует дошедшие до него рассказы о поведении троцкистов в лагерях (с самими троцкистами Солженицыну не довелось общаться, поскольку к середине 40-х годов в лагерях их почти не осталось — подавляющее большинство их было расстреляно лагерными судами или замучено установленным для них режимом). Особенно едкими замечаниями Солженицын сопровождает рассказ о фактах сопротивления троцкистов: пении на разводах революционных песен, скандировании антисталинских политических лозунгов, вывешивании траурных флагов на палатках и бараках к 20-й годовщине Октябрьской революции и т. д. Не столкнувшись лично ни с одной подобной акцией протеста (после уничтожения троцкистов такие коллективные акции в лагерях уже не проводились), Солженицын пишет, что, по его мнению, в этих акциях был «смешан какой-то надрывный энтузиазм и бесплодность, становящаяся смешной». Естественно, что писателю, сочувственно описывавшему в своём «художественном исследовании» надежды заключённых на иностранную интервенцию и считавшему такие настроения выражением подлинной оппозиционности режиму, приверженность арестантов большевистской символике не могла не казаться «смешной» и «надрывной». Однако свой иронический рассказ о троцкистах Солженицын всё же вынужден был завершить многозначительными словами: «Нет, политические истинные — были. И много, и — жертвенны» [904].