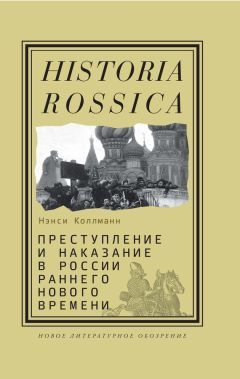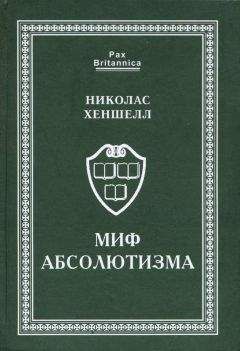Иоганн-Амвросий Розенштраух - Исторические происшествия в Москве 1812 года во время присутствия в сем городе неприятеля
Я принял такое положение, что мог видеть всадников, но они меня видеть не могли. Было, однако, еще так темно, что я не мог различить их униформы. Но как описать мое удивление или, точнее, мой ужас, когда они остановились прямо напротив нашего дома на противоположной стороне улицы, один из них спешился и дал держать своего коня другому всаднику. Я уже думал, что они меня заметили, так как практически все окна моего убежища были разбиты, и мой страх снова вернулся с удесятеренной силой. Я уже хотел спуститься вниз в дом, когда увидел, что спешившийся всадник лишь хотел справить естественную нужду. Я снова остался на своем месте, потому что мне было очень важно разглядеть униформу, которая была на кавалеристах. Прошло много времени, пока спешившийся не сел снова в седло. Движения его товарища – я не мог слышать, что он говорил, – также свидетельствовали о его большом нетерпении, потому что он несколько раз порывался ускакать один. Но тем временем стало уже настолько светло, что я мог различить – это были русские полицейские драгуны. С этим открытием мой страх исчез, и, полностью успокоенный, я сошел вниз в мою комнату. В мирной гражданской жизни такие события кажутся мелочными, и даже смешными; но в положении, как мое тогдашнее в Москве, они несказанно важны. Похоже, что драгуну только потому надо было справить нужду и задержаться возле нашего дома, чтобы я мог понять, что Москвой овладели русские, – от этого так много для меня зависело.
В субботу в городе прибавилось мужиков, которые творили много безобразий, а казаки и полицейские драгуны попадались лишь изредка и не обращали на них внимания. Из демидовских крестьян целый день никто не появлялся; наш дом не пострадал чудесным образом и от других мужиков, хотя они натворили много безобразий напротив нас и по обе стороны от нашего дома, а их ужасный рев мы слышали так, как будто бы они были на нашем дворе.
В воскресенье утром наш двор заполнили демидовские мужики, – я приказал не препятствовать им войти, потому что все равно мы не были достаточно сильны, чтобы воспрепятствовать им ворваться, если бы они захотели это сделать силой. Около одиннадцати утра те, которые хотели убить меня в ночь с четверга на пятницу, а вместе с ними еще много других, вошли под предводительством писаря в мою комнату, и писарь сказал: «Мы пришли тебя прикончить – ничто тебя теперь не спасет, даже если будет еще десять взрывов, как тот в четверг, который избавил тебя из наших рук». Мой верный, милостивый Бог, который в продолжение моей необыкновенной жизни столько раз предоставлял доказательства своего чудесного, не заслуженного мною заступничества, и в этот момент даровал мне снова такое спокойствие духа и рассудительное мужество, что я смог ответить убийцам холодно и совершенно без страха: «Если есть Воля Божия на то, чтобы я был убит сейчас, и Вашими руками, и если Он допустит вас совершить это убийство, то я готов».
Писарь подошел ко мне, за ним и некоторые другие; и тут мимо нашего открытого окна проскакал сильный отряд казаков, и я закричал: «Караул!* Караул!»*, после чего несколько казаков тотчас подскочили к окну. Я закричал громко и требовательно: «Назад, убийцы! Не смейте трогать меня!» По мере того как казаки приближались к окну, мои убийцы стали убегать, тесня друг друга к дверям и на двор, – они кидались в свои телеги и быстро выезжали со двора. Никто из нас не думал о преследовании и задержании; но через несколько недель, когда порядок уже был совершенно восстановлен, некоторые из этих крестьян появились, бросившись мне под ноги, и просили меня не выдавать их властям. Пришел и писарь с перевязанным глазом, который сильно болел; он попросил у меня прощения и сказал: Бог наказал его, потому что теперь он, наверное, ослепнет – так больно голове и глазам. Боль началась уже в воскресенье, когда он появился у меня. Я дал ему воду для глаз, которую Бог благословил, и он потом еще раз приходил ко мне, чтобы принести свое искреннее раскаяние и непритворную благодарность.
Почти одновременно с этими казаками, которых Бог привел, чтобы спасти мне жизнь, – едва четверть часа после ухода убийц – полицейский драгун привез печатное распоряжение майора полиции Гельмана[522], чтобы все собственники или управляющие домами, к которым попадет это распоряжение, немедленно явились к г-ну майору в обозначенном им доме на Тверской, чтобы сообщить, в каком состоянии находятся дома, где они проживали до сих пор. Я отправился немедленно, и когда меня попросили сообщить о состоянии Демидовского дома, г-н майор Гельман сказал мне: «Раз вы смотрели за этим домом до сих пор, пока французы были в городе, то будете и далее отвечать за него, а если с ним приключится пожар или какое иное несчастье, вас повесят на входной двери». «В таком случае я лучше сегодня же покину дом», – ответил я. «Это невозможно, – возразил майор, – если вы за ним смотрели при французах, то уж для русских должны тем более».
Я видел необходимость этой строгой меры – ибо это было сказано не мне одному, а всем присутствующим, кто имел дом или надзирал за ним; поэтому я попросил по-немецки г-на майора позволить мне запереть ворота дома и поставить охрану. Прежде всего, чтобы воспрепятствовать проникнуть туда демидовским крестьянам, потому что от них я мог ожидать всего, даже поджога дома. Он позволил мне это и обещал свою защиту против любого насильственного вторжения в мое жилище.
Удивительно, как быстро г-н майор Гельман установил полный порядок в обширной Москве, хотя в его распоряжении по прибытии было лишь немного драгун полиции и казаков. Демидовским крестьянам с тех пор приходилось худо, хотя я и не подавал на них никакой жалобы. Куча награбленного ими была конфискована законными властями, многие попали в тюрьму и получили наказания, потому что несколько раз в деревнях, где они жили, устраивали обыски; а я уже замечал выше – неправедно приобретенное добро не шло никому на пользу. Для меня это тяжелое время испытаний имело бесценные и благие последствия, которые продолжаются до сего дня, и, уповая на милосердие Христово, продлятся в вечности. Аминь.
Alexander M. Martin
Summary:
Johannes Ambrosius Rosenstrauch and His Memoir of 1812
Johannes Ambrosius Rosenstrauch, whose German-language memoir of Napoleon’s occupation of Moscow is here published for the first time, lived a colorful life. He was an emigrant and a religious convert, and at various times he was a barber, an actor, a freemason, a merchant, a pastor, and a Pietist writer. He witnessed the waning years of the Holy Roman Empire and the invasion of Holland and Germany by revolutionary France, and then spent his last 31 years in St. Petersburg, Moscow, and present-day Ukraine.
In 1835, shortly before his death, he wrote down his memories of the events in occupied Moscow in 1812. The memoir served two functions: it was a vivid first-hand account – alternately suspenseful, dramatic, melancholy, and humorous – of a decisive moment in the Napoleonic Wars; and it was an aging man’s meditation on the role of Divine Providence in shaping the course of his own life. As an account of the war, the memoir speaks for itself, but its deeper layers of meaning remain opaque unless one knows the author’s personal history. The concrete biographical information contained in the memoir is vague and elliptical. Hence the introductory section of the present book provides a study of Rosenstrauch’s life, of which the following is an English-language summary.
Rosenstrauch, as far as can be reconstructed from scanty evidence, was born in 1768 in Breslau, the capital of the Prussian province of Silesia. All that is known of his family and childhood is that he was Catholic and, as he wrote later, “of burgher origin.” For the early period of his life we know only that in 1788, he was married in the Westphalian town of Brilon. According to the parish register, he was a surgeon, that is, most likely a wandering barber-surgeon.
His life is documented with much greater continuity from 1790 on. By that year, he was an actor performing with troupes that traveled in northwestern Germany. He spent the years 1792–94 in the Netherlands, where he became a freemason and witnessed that country’s invasion by the armies of the French Revolution. It is also in the Netherlands, in 1792, that his son Wilhelm was born. During the period 1794–1800 he was a member of the court theater of the Landgrave of Hesse-Kassel; he also accompanied that troupe to engagements in other towns, including Mainz, where he witnessed the French siege in 1795. After separating from his wife, he left Kassel in 1800 for the court theater of the Duke of Mecklenburg-Schwerin. In 1804, he accepted a position at the German theater of St. Petersburg, a city that could support a German theater because of the presence of a large German diaspora. During his years in Mecklenburg-Schwerin and St. Petersburg, he was very active as a freemason and embraced a Pietistic form of Protestantism.
It is unclear when, exactly, he decided to give up the acting profession. Actors were outsiders in ancien régime society; their profession was widely viewed as shameful and immoral, and they suffered great socioeconomic insecurity. These circumstances are probably the reason why, in 1809, Rosenstrauch left the theater and became a merchant. Later in life, he was at pains to conceal his past as an actor. The memoir never mentions it, but it does contain hints. Several of the acquaintances whom he mentions (Czermack, Haltenhof, Suck) were theater people or musicians. Also, the narrative itself seems constructed with a theatrical sensibility: in many places it is composed of discrete episodes that resemble scenes from a play, complete with descriptions of the physical setting, dialogue, a suspenseful dramatic arc, and at times a humorous resolution.
St. Petersburg was Russia’s most cosmopolitan city and the largest port for the importation of European luxury goods, which enjoyed great popularity among the Russian upper class. Rosenstrauch traded in just such goods, first in St. Petersburg and then, starting November 1811, in Moscow, where he established his shop on Kuznetskii Most (“Blacksmiths’ Bridge”), the city’s most elegant shopping street. This was his position when Moscow was occupied by the army of Napoleon in 1812.