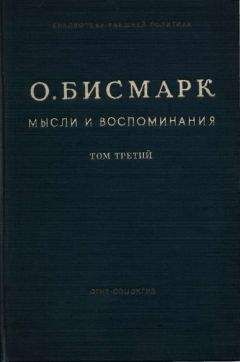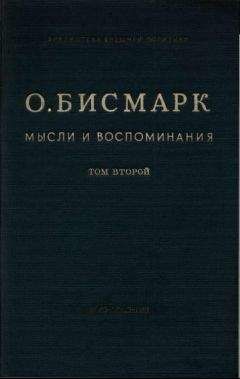Йоахим Радкау - Эпоха нервозности. Германия от Бисмарка до Гитлера
Одна из главных заслуг учения о неврастении состояла в том, что оно уберегло женщин от бессмысленных гинекологических операций, причем именно в то время, когда такая защита была нужна как никогда. В общем операционном ажиотаже, разгоревшемся в конце XIX века вследствие совершенствования хирургических технологий, частота операций на влагалище и на матке также драматически выросла. Взгляд через микроскоп на слизистую оболочку генитальной сферы открыл наблюдателю новый волнующий мир, где кишели микробы, бушевали воспалительные процессы, кисты и ранки. Возникали все новые версии об очагах болезней. Несмотря на то что теория матки как виновницы истерии в 1880-е годы уже утратила популярность, лишь теперь по-настоящему участились операции на матке против «нервных» расстройств. Даже Шарко, оставшийся в истории как великий новатор психической интерпретации, до сих пор видел причину истерии в яичниках и поддерживал операции по их удалению. Конрад Ригер еще в 1900 году жалуется, что, «к примеру, удаление обоих яичников из-за одной лишь “нервозности” не вызывает ни малейших колебаний». «Женщины при этом проявляют истый furor operatorius passivus, врачи же, напротив – furor operatorius activus»[122] (см. примеч. 89).
Само понятие «нервозность» никак не защищало от бессмысленных операций на малом тазу; при желании можно было сконструировать теорию о том, что аномалии генитальной сферы вызывают потрясение всей нервной системы. Однако учение о неврастении было изначально антилокалистическим и несло в себе принципиальный протест против furor operatorius. Именно Мёбиус, которого женщины считают врагом, выступил здесь их защитником. Альберт Молль заключает свою популярную книгу о «нервной женщине» настойчивым предостережением от оперативного вмешательства при лечении неврастении: «Дело дошло уже до полной кастрации женщин, чтобы лечить истерию!» (см. примеч. 90).
Если неврастения четко отграничивалась от истерии, то она более эффективно защищала женщин от бесполезных операций, чем истерия. Но была ли между ними ясная граница? Для Бирда – определенно да, во всяком случае, истерию он понимал как типично женское расстройство. Он подробно рассказывает, как дифференцировать диагнозы истерии и неврастении. Первое различие – отсутствие при неврастении судорог, традиционного признака истерии. При истерии «симптомы острые, интенсивные, яркие, активные», при неврастении они «умеренней, спокойней, пассивней». Шарко, настоящий гроссмейстер grande Hysterie, сделавший сенсацию своими драматическими шоу загипнотизированных истеричек, строго отграничил истерию от вялой неврастении, высоко оценив при этом теорию Бирда. Это не помешало ему предложить понятие «истеро-неврастения», т. е. он признал переходный случай как широко распространенный. Впрочем, в 1890-е годы grande Hysterie Шарко отчасти была разоблачена как продукт врачебного внушения, и истерия, таким образом, утратила часть своей драматичности. А оставшаяся «малая истерия» – без ярко выраженных судорог и оцепенения – уже не так легко отграничивалась от неврастении (см. примеч. 91).
Вплоть до 1880-х годов исследование истерии было делом французской науки, а немцы считали истерию характерным свойством француженок. Лишь с распространением концепта неврастении истерия привлекла к себе интерес и в Германии. До этого понятие «истерия» в немецких научных кругах вызывало недоверие. Психиатр Карл Пельман вспоминал: «Раньше в истерию, как в чулан, относили все, что у представительниц слабого пола было менее похвальным и достойным, и что не встречало серьезного понимания». В повседневном немецком языке понятие «истеричный» также было тогда не особенно распространенным; в анамнезах пациентов члены семьи женского пола очень часто описываются как «нервные» и лишь в отдельных случаях как «истеричные». То, что интерес немцев к неврастении и истерии растет примерно в одно и то же время и отчасти у одних и тех же авторов, говорит о том, что под этими расстройствами исходно понимали разные вещи. Для Мёбиуса истерия была сначала чем-то «совершенно иным» по сравнению с неврастенией, но уже вскоре он убедился в том, что оба расстройства «чрезвычайно часто» встречаются вместе. Молодой Гельпах, который в то время не только писал одну за другой статьи о нервозности, но и выпустил толстую книгу об истерии, утверждал – что граница между ними «столь удивительно четкая», что путаницу между той и другой «ничем нельзя извинить», однако тогда он еще не имел большого практического опыта. В теории эти расстройства различались, но во врачебной практике, напротив, они «необыкновенно часто сопутствовали друг другу» (см. примеч. 92).
Соседство между неврастенией и истерией привлекало к себе внимание еще и потому, что чем сильнее в центр концепта неврастении выдвигалась возбудимость и чем важнее становилась роль воображения, тем более подвижной становилась граница с истерией. Это обстоятельство не обязательно вредило женщинам. Порой удивляешься, что иногда даже приступы ярости и слез, которые так легко было бы признать «истеричными», получали диагноз неврастении. Так, у Отто Бинсвангера читаем: «Я знал высокообразованных женщин с большой степенью самообладания, которые в подобных неврастенических состояниях топали ногами, били об пол тарелки и метались во все стороны, пока не падали на диван в отчаянии, изнеможении и горьких слезах». Бинсвангер вовсе не трактует такое поведение как типично женское, но проводит аналогию с «беспокойной деловитостью» охваченного тревожностью «неврастеничного торговца» (см. примеч. 93). Похоже, что между концепциями истерии и неврастении существовали взаимовлияния, хотя бы подспудно. Сначала истерия уподобляется неврастении и воздействует на идею этого расстройства. Но сегодня, когда в бытовом языке, благодаря своему уничижительному эффекту, сохранилось лишь понятие истерии, оно вобрало в себя и все неприятные стороны прежней неврастении: капризную раздражительность, жалость к себе и пронзительные тирады.
Возможно ли, что «неврастения» была нужна для того, чтобы уберечь мужчин от недостойного диагноза «истерия», и что в этом и состояла ее негласная функция? Вероятно, в отдельных случаях так и было. Отто Бинсвангер приводит пример «священника с чрезвычайно высоким интеллектом», известного «публичными речами на народных собраниях». Он ставит ему диагноз «неврастения», хотя тот страдал судорогами и «почти полной неспособностью двигать нижними конечностями». Освальд Бумке в 1920-е годы ратовал за то, чтобы ограничить диагноз «истерия» совершенно конкретными психогенными телесными реакциями, и приводил следующий аргумент: «Если мы будем […] любую необычную телесную реакцию на сильное душевное потрясение тотчас же трактовать как истеричную, то мы – страшно сказать – поставим диагноз самому Бисмарку, с которым после особо волнительных переговоров иногда случался припадок рыданий» (см. примеч. 94). Как добропорядочный немец, Бисмарк еще мог считаться неврастеником, но никак не истериком.
Урсула Линк-Хеер, ссылаясь на французские источники, утверждает, что «немецкая по-солдатски здоровая нация с ее панцирными телами» никогда не приняла бы «мужскую истерию». Однако она весьма переоценивает реальную силу тех клише, которые культивировались народными националистами. В Англии идея мужской истерии отклика не нашла, но в Германии – вполне. Немецким неврологам и не снилась идея о том, что немецкий мужчина – юный Зигфрид. Уже в 1894 году Лёвенфельд замечает, что представление о специфике пола «в последнее время претерпело огромные изменения»; и разве что тайком не воспрещается предаваться старой вере в то, что истерия – исключительно женская болезнь (см. примеч. 95).
В Бельвю у Бинсвангеров в 1880-е годы диагноз «истерия» встречается почти только у женщин, а «неврастения» преимущественно у мужчин. В 1889 году знатный остзейский сенатор поступает в клинику как неврастеник, а его жена – как истеричка. Однако в 1890 году Роберт Бинсвангер у прусского капитана благородного рода из региона Восточной Эльбы диагностирует истерию, хотя тот записал себя неврастеником. Решающую роль сыграли, вероятно, припадки ярости, которые
Бинсвангер не считал нормальным явлением даже для армейского капитана и которые нарушали идеальную картину неврастенического диагноза. Значительную часть вины Бинсвангер возлагал на супругу капитана: «Очень неблагоприятно влияет на пациента его жена, которая и сама очень нервна, напичкана псевдомедицинскими знаниями, не доверяет врачам и курсам лечения, что чрезвычайно затрудняет работу». В 1887 году в Бельвю находился профессор и тайный советник, принятый туда как морфинист, а вышедший оттуда как истерик. С 1896 по 1901 год в Арвайлере 4 раза проходил курс лечения торговец с берегов Рейна, поначалу демонстрировавший симптомы неврастении, вызванной «кучей работы» и «длительными переездами по железной дороге». Но когда у него при тряске от поезда или велосипеда «бессознательно и невольно» начали происходить выбросы спермы и кала, для врача он превратился в истерика. Решающим критерием выступала при этом анестезия[123] как следствие бессознательного характера этих процессов (см. примеч. 96).