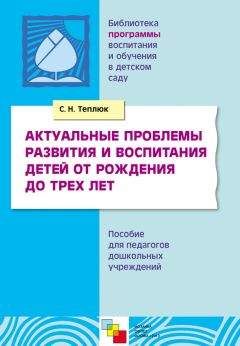Джеймс Скотт - Искусство быть неподвластным. Aнархическая история высокогорий Юго-Восточной Азии
Зоны спасения от государства
Существуют убедительные доказательства того, что Вомия – зона не только сопротивления равнинным государствам, но и спасения от них[47]. Используя слово «спасение», я хочу сказать, что большая часть населения гор в течение более чем полутора тысяч лет перебиралась сюда, чтобы избежать многочисленных невзгод, связанных с проектами государственного строительства на равнинах. Горные народы отнюдь не «отстали» от прогрессивной поступи цивилизационного развития на равнинах, а в течение столетий сознательно выбирали для жизни территории, по определению недоступные государственному контролю. Жан Мишо отмечает в этой связи, что так называемый кочевой образ жизни в горах является «стратегией бегства и выживания», приводя в подтверждение беспрецедентное количество массовых восстаний во второй половине XIX века в центральных и юго-западных районах Китая, в результате которых миллионы беженцев устремились на юг, в отдаленные высокогорные регионы. Ему импонирует моя идея, что Вомию в исторической перспективе следует рассматривать как регион бегства от государств, прежде всего от Ханьской империи. Он полагает, что, «возможно, справедливо утверждение, будто по крайней мере часть горных жителей, перебравшихся на эти высокогорья из Китая за последние пять столетий, были вынуждены покинуть отчий дом в результате агрессии со стороны более мощных соседей, в первую очередь в результате Ханьской экспансии»[48].
Детальные и убедительные документальные подтверждения того, что Ханьская экспансия порождала конфликты и миграционные потоки, исключительно многочисленны начиная с эпохи династии Мин (1368), не говоря уже о правлении императоров Цин. Конечно, самые ранние свидетельства редки и довольно сомнительны, особенно если учитывать удивительную подвижность этнических и политических наименований в те времена. Тем не менее общая ситуация была такова: по мере того как разрасталось китайское государство, народы, оказавшиеся под ударом экспансии, либо поглощались (становились ханьцами), либо были вынуждены бежать, нередко после неудачного восстания. Беглецы формировали, пусть и временные, сообщества, которые, по сути, «самомаргинализировались» посредством миграции[49]. Поскольку этот процесс повторялся снова и снова, культурно многосложные зоны бегства возникали уже внутри империй. По мнению Фискесьё, «история безгосударственных народов в этом регионе» может быть описана как череда столкновений тех, кто длительное время проживал в горах (например, народа ва), с теми, кто искал здесь спасения: «Среди беглецов [от китайской государственной власти] мы видим множество представителей тибето-бирманских этнолингвистических групп (лаху, хани, акха и др.), а также говорящие на языках мяо и хмонгов другие народы… которые называют „горными племенами за пределами Китая“, „наследниками поражений“, в результате которых они в течение последних нескольких столетий перебирались в северные районы современных государств – Таиланда, Бирмы, Лаоса и Вьетнама, где многие из них до сих пор считаются вновь прибывшими»[50].
Здесь, в регионах, недоступных прямому государственному контролю, а потому защищенных в определенной степени от налогов, трудовых и воинских повинностей и отнюдь не редких эпидемий и неурожаев, связанных с высокой концентрацией населения и приверженностью монокультурам, подобные группы обретали относительную свободу. Здесь они развивали то, что я назвал бы сельским хозяйством беглецов, – те формы земледелия, что мешали их поглощению соседними государствами. Даже их социальную структуру можно вполне уверенно расценивать как способствующую избеганию государства, поскольку ее формат был призван помогать территориальному рассеянию и автономии, предотвращая возникновение любых форм политического подчинения.
Невероятная лингвистическая и этническая текучесть в горных районах – сама по себе важнейший социальный ресурс адаптации к изменчивым властным рокировкам, потому что она упрощает феноменально искусные трансформации идентичности. Жители Вомии, как правило, не только характеризуются лингвистической и этнической подвижностью и вариативностью, но и, в своей приверженности следовать харизматическим лидерам, способны на практически мгновенные социальные преобразования – в одночасье покинуть свои поля и дома, чтобы присоединиться к уже существующему сообществу или создать собственное по велению авторитетного проповедника. Их готовность без колебаний «перевернуть свою жизнь на 180 градусов» в конечном счете объясняется желанием избежать возникновения социальной структуры. Если рассуждать и дальше в этом ключе, пусть и с куда большей натяжкой, то ровно так же можно интерпретировать и неграмотность горных народов. Практически все они рассказывают легенды, согласно которым когда-то давно они имели письменность, но либо утратили ее, либо она была украдена. Учитывая значительные преимущества гибкой устной традиции перед письменными версиями истории и генеалогий, можно объяснить утрату грамотности и корпуса письменных текстов как более или менее целенаправленную адаптацию к безгосударственному состоянию.
Если суммировать мою аргументацию, то она такова: для адекватного понимания истории горных народов ее следует трактовать как историю не потомков архаических сообществ, а «беглецов» от процессов государственного строительства на равнинах – в длительной исторической перспективе мы фактически имеем дело с «высадившимися на необитаемом острове». Большая часть сельскохозяйственных и социальных практик горных жителей – способы извлечь из этого бегства максимальную выгоду, сохранив при этом все экономические преимущества поддержания отношений с равнинными государствами.
Территориальная концентрация граждан и производства в условиях низкой плотности населения, что характерно для Юго-Восточной Азии, требовала различных форм принуждения к труду. Все без исключения государства здесь были рабовладельческими, причем некоторые – вплоть до начала XX века. В доколониальный период войны в Юго-Восточной Азии были чаще обусловлены захватом не земель, но как можно большего числа пленников, которых перемещали в центральные районы государств-победителей. В этом смысле последние мало чем отличались от, скажем, Афин времен Перикла, где численность рабов в пять раз превышала количество граждан.
Результатом подобных проектов государственного строительства стало возникновение осколочных зон, или зон бегства, куда устремлялись все те, кто хотел спастись от закабаления. Эти зоны – не что иное, как прямой «эффект государства». А Зомия, в основном вследствие безмерных экспансионистских претензий молодой китайской империи, оказалась одной из самых больших и древних из подобных зон. Такие регионы – неизбежное следствие жестких проектов государственного строительства, а потому они есть на всех континентах. Ниже я рассмотрю некоторые из них в сравнительном контексте, а сейчас лишь перечислю несколько примеров, чтобы показать, насколько широко распространено это явление.
Поскольку испанская колонизация в Новом Свете основывалась на принуждении местного населения к труду, последнее, стремясь обрести свободу, было вынуждено бежать в труднодоступные районы – горные и засушливые[51]. Они характеризуются значительным лингвистическим и этническим разнообразием, а порой и упрощением социальной структуры и практик хозяйствования (переходом к скотоводству, подсечно-огневому земледелию) в целях повышения мобильности. Ровно то же самое случилось и во времена испанского правления на Филиппинах: горные районы северного Лусона были заселены в основном филиппинцами, которые бежали сюда с равнин от рабовладельческих рейдов малайцев и жестких мер подавления сопротивления местного населения испанцами[52]. После периода адаптации к экологическим условиям жизни в горах здесь начался процесс этногенеза, который привел к неверному восприятию горных народов как потомков переселенцев доисторических миграционных волн на остров.
Казачество, сформировавшееся на многих границах России, – еще один яркий пример описанных выше процессов. Изначально казаки – ни больше ни меньше как беглые крепостные со всех губерний европейской части России, которые оседали на пограничных территориях[53]. По критерию региона проживания сложились разные казачьи «войска»: донские казаки (в бассейне реки Дон), азовские (у Азовского моря) и т. д. В этих пограничных районах, копируя особенности верховой езды своих татарских соседей и деля общие пастбища, они превратились в «народ», который позже служил в российской, османской и польской кавалериях. История цыганских групп рома и синти в Европе в конце XVII века – еще один показательный пример[54]. Их, как и другие стигматизированные народы, приговаривали по суду к двум типам трудовой повинности: рабству на галерах в Средиземном море или же, на северо-востоке, службе в пехоте или военными носильщиками в княжестве Бранденбург-Пруссия. В результате цыгане сконцентрировались на узком клочке земли, в так называемом преступном коридоре, – единственной зоне спасения между этими двумя затягивающими и столь схожими смертельными опасностями.