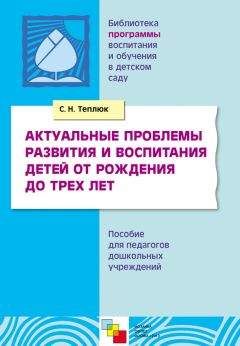Джеймс Скотт - Искусство быть неподвластным. Aнархическая история высокогорий Юго-Восточной Азии
Но если отставить в сторону эти немногочисленные случаи возникновения государств, горы, в отличие от долин, не платили налоги монархам и десятины каким-либо устойчивым религиозным институтам. Здешние жители представляли собой сообщества относительно свободных, обходившихся без государства животноводов и горных фермеров. Положение Зомии на границах центров равнинных государств определило ее своеобразную изоляцию и, соответственно, автономию, которой подобная изоляция способствует. Само размещение Зомии в буферной зоне на границах множества конкурирующих и примыкающих друг к другу суверенных государств предоставляло населяющим ее народам определенные преимущества в занятиях контрабандой, производстве опия и создании «мелких пограничных держав», с трудом балансирующих на грани утраты тяжело выторгованной квазинезависимости[38].
Более убедительное и, я думаю, корректное политическое описание Зомии состоит в том, что горные народы активно сопротивлялись поглощению классическими, колониальными и независимыми национальными государствами. Помимо использования преимуществ своей географической изоляции от центральных районов суверенных держав, бо́льшая часть Зомии «противостояла проектам национального и государственного строительства тех стран, на территории которых находилась»[39]. Это сопротивление стало особенно явным после получения многими государствами независимости после Второй мировой войны – Зомия стала ареной сепаратистских восстаний, борьбы за права коренных народов, милленаристских движений, региональных конфликтов и вооруженного противостояния равнинным государствам. Однако истоки этих протестов схожи: в доколониальную эпоху сопротивление, по сути, было культурно детерминированным отказом от жизненных практик долин и выражалось в бегстве из государств в горы в поисках прибежища.
В колониальный период политическая и культурная автономия горных районов поддерживалась европейцами, которые воспринимали местный сепаратизм как малозначимую для себя проблему по сравнению с сопротивлением большинства равнинных жителей колониальным порядкам. Одним из результатов классической политики «разделяй и властвуй» стало то, что, за редкими исключениями, горные народы играли незначительную роль или вообще не участвовали в антиколониальных восстаниях (а иногда выступали на стороне колониальных властей). В лучшем случае они оставались в маргинальной позиции по отношению к национально-освободительным нарративам, в худшем – считались пятой колонной, угрожающей национальной независимости. Отчасти по этой причине постколониальные равнинные государства стремились установить полный контроль за горными территориями, используя для этого методы воен ной оккупации, проводя кампании против подсечно-огневого земледелия, основывая поселения, стимулируя миграцию горожан в горные районы, насаждая религиозные практики, побеждая пространство строительством дорог, мостов и телефонных линий, претворяя в жизнь программы развития, в ходе которых в горах вводились равнинные модели административного управления и культурные стили жизни.
Но горы – не только пространство политического сопротивления, но и зона культурного протеста. Если бы дело было только в политике и власти, то, скорее всего, горные сообщества походили бы на равнинные государства в культурном отношении, отличаясь от них лишь высотностью и рассеянностью расселения, обусловленными географическими факторами. Однако нельзя сказать, что в целом жители гор похожи на население равнин с точки зрения культурных, религиозных и лингвистических практик. Социокультурная пропасть между горами и долинами до самого недавнего времени воспринималась в Европе как некая историческая константа. Фернан Вродель признавал политическую независимость гор и одобрительно цитировал высказывание барона де Тотта о том, что «самые скалистые горы всегда были прибежищем свободы». Но он пошел еще дальше, предположив наличие непреодолимого культурного разрыва между долинами и горами: «Горы, как правило, представляют собой мир, удаленный от цивилизации, детища городов и низменностей. Жители гор в большинстве случаев остаются на обочине великих цивилизационных движений, бывают не затронуты их медленным распространением. Обладая хорошей способностью к расширению по горизонтальной плоскости, эти движения оказываются бессильными перед препятствиями в несколько сотен метров, мешающими им подниматься по вертикали»[40]. По сути, Вродель воспроизводит идею, высказанную столетия назад, в XIV веке, великим арабским философом Ибн Хальдуном, заметившим, что «арабы могут установить контроль только на равнинной территории» и не преследуют племена, которые скрываются в горах[41]. Сравните смелое утверждение Вроделя о том, что цивилизации не могут подняться в горы, с почти идентичным высказыванием Оливера Уолтерса о доколониальной Юго-Восточной Азии, в котором он процитировал слова Пола Уитли: «Многие люди жили на отдаленных высокогорьях и были вне досягаемости городских центров, где сохранились записи.
Мандалы [судебные центры цивилизаций и власти] – феномен равнин, и даже здесь географические условия способствовали неуправляемости. Пол Уитли верно заметил, что „санскрит перестает звучать уже через 500 метров от них“»[42].
Исследователи Юго-Восточной Азии не перестают поражаться тому, сколь жесткие ограничения накладывает география, особенно высота над уровнем моря, на культурное и политическое влияние. Пол Мае, изучая Вьетнам и вторя Уитли, заметил по поводу распространения вьетнамского языка и культуры, что «это этническое приключение заканчивается у подножия горных хребтов страны»[43]. Оуэн Латтимор, широко известный прежде всего своими исследованиями северных границ Китая, также отметил, что индийская и китайская цивилизации, в соответствии с высказыванием Вроделя, хорошо перемещались по равнинам, но быстро выдыхались, как только сталкивались со скалистыми горами: «Подобная стратификация пространства характерна не только для Китая, она переходит его границы, проникая на полуостров Индокитай, в Таиланд и Бирму, – влияние великих древних цивилизаций распространяется безмерно далеко на низменностях, где возникают очаги сельского хозяйства и большие города, но заканчивается перед высотами»[44].
Хотя Вомия исключительно разнообразна в лингвистическом плане, как правило, языки, на которых говорят в горах, явно отличаются от используемых в долинах. Структуры родства, по крайней мере формальные, также различны в горах и на равнинах. Отчасти это объясняет идея Эдмунда Лича, который охарактеризовал горные народы как наследующие «китайской модели», а равнинные общества – как последователей «индийской» или санскритской традиции[45].
Горные сообщества, как правило, во всем отличны от равнинных: первые склоняются к анимизму или, в XX веке, к христианству, но не к «великим традиционным» религиям спасения, которые исповедуют жители равнин (в частности буддизм или ислам). Даже если, что иногда случается, горные народы принимают «мировую религию» своих равнинных соседей, они делают это с той степенью нетрадиционности и таким милленаристским пылом, которые скорее пугают, чем внушают доверие элитам равнинных государств. Горные жители производят излишки, но не используют их в интересах царей и монахов. Отсутствие крупных, устойчивых, поглощающих излишки производственной деятельности религиозных и политических структур обусловливает возникновение в горных районах социальной пирамиды, которая, в отличие от стратификационных моделей равнинных обществ, имеет мало уровней и локально детерминирована. Статусные различия и маркеры достатка весьма разнообразны и в горных, и в равнинных районах – различие в том, что во втором случае они имеют надлокальный и устойчивый характер, тогда как в горах они одновременно нестабильны и географически локализованы.
Эта характеристика, конечно, не раскрывает разнообразия политических практик в горных сообществах. Подобная вариативность ни в коем случае не является лишь функцией «этничности», хотя некоторые горные народности, например лаху, хму и акха, исключительно эгалитарны и децентрализованны. Однако повсеместно встречаются группы, на которые такое обобщение не распространяется. Окажем, среди народностей карен, качин, чин, хмонг, яо/мьен и ва встречаются как относительно иерархизированные подгруппы, так и децентрализованные, эгалитарные. Что удивительно и важно, так это то, что уровень иерархичности и степень централизации исторически изменчивы. Насколько я понимаю, вариативность существенно зависит от стремления имитировать процессы государственного строительства. Иными словами, либо речь идет о некотором кратковременном военном союзе, либо о каком-то типе «грабительского капитализма», основанном на захвате рабов и сборе дани с жителей равнин. Горные народы вполне могли выстраивать взаимовыгодные отношения с равнинными царствами, что совершенно не означало их политического поглощения или подчиненного положения, – они могли руководствоваться соображениями выгоды в случае контроля прибыльного торгового пути или охраны удобного выхода на ценные рынки. Политические структуры горных сообществ, за редчайшими исключениями, были имитационными в том смысле, что могли использовать внешнюю атрибутику и дискурс монархии, но не ее сущностные практики – налогообложение и прямой контроль за всем и вся, не говоря уже о постоянной армии. Горные государственные формы – это почти всегда редистрибутивные отношения с системой состязательных пиршеств, и поддерживаются они лишь из соображений доступной таким образом выгоды. Если иногда они и казались относительно централизованными, то, по мнению Варфилда, лишь потому что изображали «теневые империи» кочевых скотоводов, которые хищная периферия создавала, чтобы монополизировать преимущества торговли и набегов на окраинах равнинных государств. Горные государственные формы обычно еще и паразитичны в том смысле, что разрушались сразу после того, как вскормившая их империя распадалась[46].