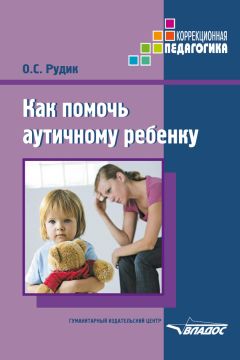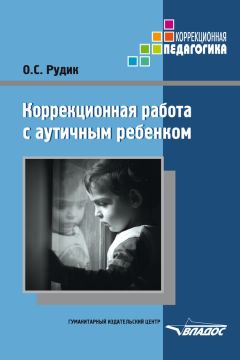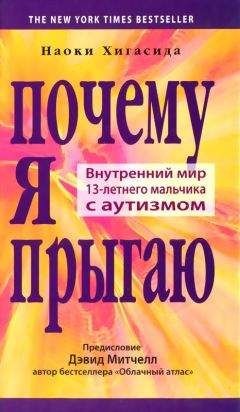Дайана Койл - ВВП. Краткая история, рассказанная с пиететом
ТАБЛИЦА 2. Средние ежегодные темпы роста реального ВВП (%)
ИСТОЧНИК: Maddison A. The World Economy: A Millennial Perspective / Organization for Economic Cooperation and Development. Paris, 2000.
Трудно было придумать какое-то простое объяснение этому благополучному 30-летнему периоду. Согласно одной из гипотез, выдвинутой в 1969 г. Ференцом Яноши, в послевоенный период экономика возвращалась к своему тренду, действовавшему до 1914 г., а после того, как она к нему подтянется, начнется замедление роста. Его прогноз оправдался[42]. Однако большинство экономистов предпочитают менее фаталистичные объяснения и среди причин долгосрочного роста выделяют увеличение доступных ресурсов (факторов производства), главным образом труда и капитала, а также повышение эффективности их использования, т. е. рост производительности. «Золотой век» экономического роста был обязан обоим элементам. Особенное значение имело постоянное повышение уровня образованности рабочей силы. Помимо этого, одна за другой появлялись и входили в широкое применение новые технологии. Многие из них изначально были созданы для военных нужд. Так появились материалы вроде синтетического каучука и пластика. А кроме того, воздушное сообщение, электронная вычислительная техника, различные улучшения в радиосвязи и многие другие нововведения. В 1963 г. Гарольд Вильсон, вскоре ставший премьер-министром Великобритании, сравнил научно-техническую революцию со сталеплавильной печью, из которой выкуется неузнаваемая страна, – настолько прочно и быстро изобретения проникали в повседневную жизнь.
Пожалуй, не меньшее значение имело постоянное увеличение доступности потребительских благ, а также благоприятный цикл, когда друг друга взаимно усиливали рост потребительских расходов, выпуск потребительских товаров, увеличение занятости и рост доходов. Мысль о том, что для создания успешного рынка потребительских товаров важно, чтобы потребители преуспевали, а значит, получали высокие доходы, впервые озарила еще Генри Форда, который в 1915 г. запустил производство «автомобиля для широкого употребления»[43]. Однако массовым общество потребления стало только в послевоенные годы. Все большее число домохозяйств обзаводилось самыми разнообразными потребительскими новинками, и к 1970-м годам их доступность стала практически всеобщей: автомобили, радиоприемники, холодильники, стиральные машины, телевизоры, видеокамеры, газонокосилки, телефоны… Этот список можно было бы продолжить. То же касалось и кратковременных экономических благ: все больше людей могли позволить себе купить модную одежду, музыкальные звукозаписи, книги с рецептами от Элизабет Дэвид и Джулии Чайлд или устроить вечеринку для друзей. Подростки и молодежь также приглашались к празднику потребления. Теперь, когда нас окружает такое богатство товаров, взгляд в прошлое приводит к удивительному выводу – насколько молодо явление потребительской культуры (consumerism). К примеру, лишь в 1950 г. доля американских домохозяйств, имеющих стиральную машину, достигла 75 %; в Европе та же доля была достигнута лишь в 1970 г. Автомобилями та же доля американских домохозяйств обзавелась лишь к 1960 г. В 1970 г. лишь половина домохозяйств Великобритании и Франции имела телефон; в Америке в 1970-х годах эта доля составляла 94 %, однако европейские страны догнали США по этому показателю лишь в конце 1990-х годов. В случае с более новыми технологиями процесс ускорился: всего за десятилетие большинство жителей западных стран стали владельцами мобильных телефонов, а распространение смартфонов с доступом к Интернету произошло еще быстрее.
Насколько велико наше благосостояние?
В июле 1957 г. Гарольд Макмиллан, премьер-министр Великобритании, в общении с избирателями произнес: «Большинство нашего народа еще никогда не жило так хорошо». Вскоре, когда дела в экономике начали идти не так благополучно, о его правоте закрались сомнения, но на тот момент он не ошибался. Уровень жизни был самым высоким за всю историю, открылся доступ к самым разнообразным видам новых товаров, а инфляция и безработица были низкими. Когда на памяти у каждого еще была война, это утверждение выглядело самоочевидной истиной. Но что можно было сказать, например, о Германии или даже Франции, находившейся под оккупацией большую часть войны? Да та же Великобритания – разве, несмотря на успешные 1950-е годы, она не выиграла войну только для того, чтобы проиграть в мирное время? Ведь как велики были ее долги и наследие, оставшееся после того, как она вынуждена была поставить свою экономику на военные рельсы, вместо того чтобы заниматься нормальным инвестированием.
Но и над США небо не было безоблачно. Америка времен Эйзенхауэра переживала еще более счастливый бум потребления, чем европейские страны: в 1950 г. появилась первая кредитная карта Diner’s Club, наступала заря телевизионной рекламы, открывшая эпоху «Безумцев»[44]. Однако на место Второй мировой войны пришла война холодная, сопровождавшаяся гонкой вооружений между США и Советским Союзом, который заперся вместе со своими союзниками за железным занавесом. Против Америки и Запада были направлены не только войска, танки и ядерные боеголовки, но и идеологическое оружие. Западная потребительская культура, напротив, была вызовом советской промышленности и технологиям[45].
Экономика в коммунистических странах была подчинена центральному плану и не была рыночной. Министерства в Москве устанавливали цифры, на какую сумму должно было быть произведено того или иного вида продукции, а затем эти цифры спускались вниз и превращались в конкретные производственные квоты для отдельных предприятий и заводов. Оглядываясь назад, теперь мы можем видеть, что представление, будто бюрократы могут иметь достаточно информации о большой, сложно организованной экономике и осуществлять успешное централизованное планирование, смехотворно. В начале 1950-х годов, когда экономика была устроена гораздо проще, чем сейчас, это не было очевидным. Америка испытала настоящий шок, когда Советский Союз в 1961 г. одержал победу в первом раунде космической гонки и советский гражданин Юрий Гагарин стал первым человеком в космосе.
Какая из стран на самом деле была впереди – США или СССР? Всегда, когда требуется провести сравнение между несколькими экономиками, необходим единый стандартизированный критерий. Очевидный критерий такого рода – ВВП. Еще до 1940 г. в ряде стран был организован учет национального дохода, хотя при этом использовались разные определения и методы корректировки. Сразу же после войны США и Великобритания взяли на себя координирующую роль в процессе стандартизации учета, опираясь на недавно оформившуюся концепцию ВВП и национальных счетов. Опосредующая роль была отведена Организации Объединенных Наций. В 1947 г. ООН выпустила доклад, в котором содержались методические рекомендации по ведению учета; приложение к докладу со всеми необходимыми подробностями принадлежало перу Ричарда Стоуна из Министерства финансов Великобритании. Следующий шаг был сделан ОЕЭС, выпустившей в 1951 и 1952 гг. дополнительные рекомендации, которые в особенности касались учета средств по плану Маршалла, а затем, в 1953 г. ООН обнародовала первую официальную Систему национальных счетов (она получила аббревиатуру СНС-53). Страны коммунистического блока последовали общему примеру и в 1969 г. приняли новую версию собственного стандарта, так называемой системы балансов народного хозяйства[46]. Как отмечалось в гл. I, его существенное отличие состояло в том, что в расчет входило только производство материальных благ, а услуги исключались; однако в остальных отношениях это был тот же подход, что и при учете ВВП.
С течением времени все большее число стран присоединялось к системе национальных счетов, совершенствуя свою статистику и повышая ее детализацию. «Тем не менее, – заметил Фритц Бос, – до сих пор существуют громадные различия в степени охвата, подробности, качестве и частоте статистики национальных счетов, которые публикуют разные страны»[47]. На самом деле, в подробности вдается лишь небольшое число статистиков и экономистов. Обеспечить максимальную сопоставимость данных – это забота международных организаций. В случае развитых стран это прежде всего ОЭСР, для остальных – Всемирный банк и МВФ. Именно их цифры используют большинство экономистов, когда пытаются сравнить экономические достижения разных стран.
Обменные курсы и покупательная способность
Но еще одно важное препятствие остается даже после того, как уточнены все технические детали, связанные со сбором первичной статистики и построением национальных счетов. Как мы должны сравнивать фунты или франки с долларами? Ответ, который лежит на поверхности: использовать обменные курсы, преобладавшие на рынках в соответствующие периоды.
Но простота этого ответа обманчива. Многие обменные курсы стали определяться в результате торговых сделок на валютных рынках лишь после 1973 г., а некоторые курсы, например, китайского юаня, до сих пор определяются иначе. В период до 1973 г., в рамках Бреттон-Вудской системы управления международными финансовыми отношениями, курс доллара к фунту стерлингу был фиксированным. Он постепенно девальвировался с 4 долл. за фунт во время Второй мировой войны до 2,80 долл., а затем до 2,40 долл. Представьте себе, что американцы пользуются преимуществами снижения цен на определенный товар, скажем на автомобили, которые для британских потребителей остаются слишком дорогими. В условиях, когда обменный курс свободно меняется, валюта страны с более высокой инфляцией будет обесцениваться по сравнению с валютой страны, где инфляция ниже.