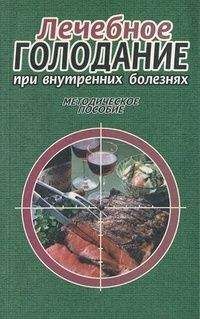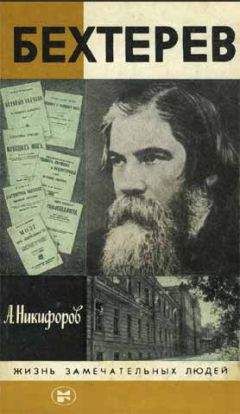Огюстен Кошен - Малый народ и революция (Сборник статей об истоках французской революции)
153
над другими беспредельна и не подлежит обжалованию именно потому, что она не дает гарантий им самим и не отличается даже от власти того народа, который держит их за помочи. Они остаются в руках хозяина; теперь их приговорам не противопоставить ни законов, ни принципов: это приговоры самого народа; а народ — это живой закон, судья правосудия[78].
Отсюда очень определенный смысл слова революционер, слова, «более рокового для человечества, чем „Троица“ или „Евхаристия“», как говорит Риуф[79], слова, наделенного «магической силой», как говорит Малле дю Пан[80]. Любой поступок, любой приговор, исходящий от суверена, называется революционным, и все акты социального[81] режима имеют такое свойство. Уже поэтому они выше всяких законов, всякой справедливости, всякой принятой морали.
Так, есть революционные законы, которые нарушают важнейшие правила юриспруденции, например, об обратной силе, нарушают самые элементарные права и свободы; есть убийства революционные и потому законные; есть революционные армии, имеющие право вламываться в дома к частным лицам и делать и брать там все, что захочется; есть революционная полиция, которая вскрывает чужие
154
письма, предписывает доносить и оплачивает доносы; есть революционная война, которая выше международного права, революционное правосудие, обходящееся без защиты, без свидетелей, без следствия, без обжалования: к чему все это, если судит народ — по крайней мере, следит за судьями — значит, все хорошо. Вначале суверен действовал сам. После сентябрьских убийств он нанимает исполнителей; таков смысл существования революционного трибунала, по мнению его инициатора Дантона; он должен «заменить верховный трибунал Народной мести», и если бы он существовал, то не было бы резни в тюрьмах: Майяр напрасно скопировал Фукье[82].
Короче, революционное правительство, то есть социальный режим, учреждает личное правление бога-народа. И это воплощение имеет следствием создание новой морали, которой важно не то, плох или хорош поступок, а то, революционен он или нет, то есть соответствует ли он нынешней и действующей воле этого бога. Эту-то социальную ортодоксальность наши якобинцы называют в 1793 г. «патриотизмом», английские Caucusmen’ы — «Conformité» [согласованность, соответствие], американцы — «Régularité» [порядок, система][83].
Таким образом, во Франции в 1793 и 1794 гг. была несколько месяцев политическая теократия, официально узаконенная декретом Конвента, который поставил очередной целью Добродетель (читай: новую Добродетель, то есть культ Всеобщей Воли, социальной ортодоксии). Но публика, недостаточно «просвещенная», понимала плохо; и ничто так
155
не любопытно, как ошибки профанов в отношении этой добродетели и усилия новых законоучителей исправить свою паству. Можно прочесть, например, возмущенную речь Робеспьера к якобинцам 9 июля 1794 г.: можно ли было себе представить, что революционный комитет использует этот декрет Конвента о заключении в тюрьму за пьянство в праздничный день? Результат этой морали наизнанку свидетельствует и о ее глупости: ибо в этот день добрые республиканцы оказались за решеткой, а плохие — на воле. И так-то, продолжает оратор, «преступники видят в дворянах лишь мирных земледельцев и добрых мужей, и они не справляются о том, являются ли те друзьями справедливости и народа». Как будто эти «личные добродетели», так бурно расхваливаемые реакцией, имели сами по себе хоть какое-нибудь значение! Как будто даже они могли существовать без «общественных добродетелей», то есть без якобинской ортодоксальности! «Человек, у которого нет общественных добродетелей, не может иметь и личных». И, взаимно, «преступления не может быть там, где есть любовь к Республике»[84], — писал Бернар де Сент. Так противоположность между двумя моралями становилась полной. Кто служит новому богу — якобинскому Народу — тот добродетелен уже поэтому; кто борется против этого народа, тот преступник.
Термидор нанес сокрушающий удар новой мистике в самом зените ее подъема; это стало ясно в тот день, когда Тальен осмелился бросить с трибуны Конвента такое богохульство: «Какое мне дело до того, что человек родился дворянином, если он хорошо себя ведет? Какое имеет значение, что че-
156
ловек из плебеев, если он мошенник?»[85] Две морали — революционная и старая — начали странную борьбу с процесса над террористами: по какой же их судить? Это поставило судей в большое затруднение: несколько раз социальная мораль брала верх, например, в процессе Каррье; все его пособники, кроме двух, были оправданы: они воровали, грабили, убивали, но по-революционному, а значит, невинно. Самому Фукье едва не повезло так же: виновный с точки зрения морали, перед революцией он невинен. Но собрание возмутилось, президент Лиже де Вердиньи доложил об этом Комитету общественного спасения, который в ответе сказал что-то о «дурных» намерениях (вместо «контрреволюционных») — это означало признание прав старой морали и подписание смертного приговора обвиняемому[86].
Видно ли теперь, какое ужасное оружие социальный режим вложил в руки своим агентам? Оно есть произведение одних лишь принципов. Верно ли то, как думает г-н Олар, что обстоятельства оправдывают любые законы, любые действия революционеров? Это можно утверждать, но это уже другой вопрос. Мы же здесь утверждаем, что сама идея революционного закона и действия в точном смысле 1793 г., то есть идея закона и законного действия, в то же время нарушающих все самые элементарные нормы права и морали, не родилась бы без принципа прямого суверенитета и без вытекающего из него режима — социального режима. К тому же результат доказывает это: правители 1793 г. не единственные, кому пришлось вести и гражданскую,
157
и внешнюю войны; но только они поставили очередной задачей террор и пустили в постоянную работу гильотину.
Здесь неуместно говорить о «перегибах»: если принять его же принцип, то терроризм законен и нормален, и первый незаконный акт Революции — это 9 термидора; неуместно говорить тем более об «обстоятельствах»: обстоятельства дают отчет об акте, о случае, а не о догме, вере и новой морали.
А перед нами как раз догма: пришествие нового Мессии, ощутимое, актуальное вмешательство в наш случайный мир некоего абсолютного существа, воля которого выше всякого правосудия, защита которого оправдывает любой обман и любую жестокость, — Народа, или, как говорили наши вольнодумцы, Демократии. Это явление — не интеллектуальная химера (владычество Терроризма подтвердило это), не измышление, практически ограниченное законом: это конкретная, действующая реальность, и именно на этом самом факте «реального присутствия» бога основаны новая мораль и право. При этом режиме полномочия не ограничены и слиты вместе, поскольку воплощение бога — действительное и полное; а полное оно потому, что правят постоянные общества.
Вот ответ на вопрос о целесообразности рассмотрения этих принципов и этого режима. Приверженцы тезиса обстоятельств обходят его стороной, как бы не замечая: быть может, это потому, что они сами граждане Малого Государства, члены обществ мысли — семинарий этой новой религии, где принцип прямого господства привычен и ни для кого не является проблемой. Как и все верующие, они принимают основы своей веры как необходимое и достигнутое.
158
Надо ли говорить, что такой профан, как Тэн, не мог судить об этом так же, и что в буре 1793 г. его внимание должны были больше привлекать корабль и его странные маневры, нежели волны и рифы? Нельзя его за это порицать, ибо ни к чему, исходящему от Малого Града, не применимы наши обычные мерки. Это особый, отдельный мир, со своими собственными принципами, моралью, историей; и нет никаких оснований думать, будто режим и законы этого мира годятся и для нашего; опыт 1793 г. — до сих пор единственная попытка — вроде бы даже говорит об обратном.
5. Тезис заговора
Есть один факт, который столь же достоверен, сколь этот принцип ясен: это существование различия, переходящего в расхождение, разногласие, затем даже в конфликт между «Народом-сувереном» обществ и просто народом, между «революционной Францией» г-на Олара и просто Францией. Народные общества, этот основной орган истинной демократии, — это не народ. Такова истина, громко прозвучавшая в Термидоре. Несмотря на хитрые уловки якобинского общества, оказалось, что это особая, посторонняя власть, и что эта власть с одной стороны, угнетает избранников народа — Конвент, с другой — сам народ.
Конвент: он осуждает Террор. Он за него проголосовал, но он его не хотел: уже четырнадцать месяцев он не волен распоряжаться сам собой и слушается Гору, то есть якобинского меньшинства. Террор — не его [Конвента] деяние, как и жестокие