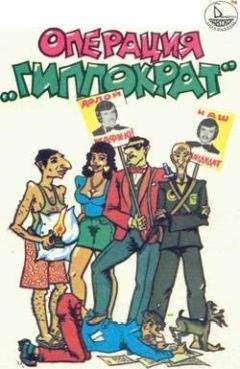Николай Смирнов—Сокольский - Рассказы о книгах
Писать стихи Фет начал очень рано, и первая его книжка под названием «Лирический Пантеон» вышла в 1840 году в Москве к двадцатилетию со дня рождения автора. Имя Фета на ней было скрыто под инициалами «А. Ф.» 12.
Сам Фет так рассказывает об этой книге: «Мало ли о чем мечтают 19-летние мальчики! Между прочим, я был уверен, что имей я возможность напечатать первый свой стихотворный сборник, который обозвал «Лирическим Пантеоном», то немедля приобрету громкую славу, и деньги, затраченные на издание, тотчас же вернутся сторицей. Разделяя такое убеждение, Б. (девушка, которую юноша Фет считал своей невестой. — Н. С. — С.) при отъезде моем в Москву, вручила мне из скудных сбережений своих 300 рублей ассигнациями на издание, долженствующее по нашему мнению, упрочить нашу независимую будущность».
Далее Фет рассказывает, что он «…тщательно приберег деньги, занятые на издание, и к концу года выхлопотал из довольно неисправной типографии Селивановского свой «Лирический Пантеон», который, — продолжает Фет, «…появясь в свет, отчасти достиг цели. Доставив мне удовольствие увидать себя в печати, а Барону Брамбеусу поскалить зубы над новичком, сборник этот заслужил одобрительный отзыв «Отечественных записок». Конечно, небольшие деньги, потраченные на это издание, пропали бесследно»13.
Разумеется, пропали не только деньги, но исчезло совершенно и само издание, носящее столь громкое название: «Лирический Пантеон». Стихи, напечатанные в этом сборнике, были незрелыми, подражательными и никак не предвещавшими того поэтического дара, который пришел к автору позже.
По–видимому, это понимал и сам поэт, так как в следующем своем сборнике стихов, вышедшем через десять лет, в 1850 году, из «Лирического Пантеона» он поместил только четыре стихотворения, а еще позднее — в книге стихов (под редакцией И. С.Тургенева) 1856 года — всего одно.
Сочувственный отзыв «Отечественных записок» не вскружил голову поэта. «Лирический Пантеон» спроса, конечно, не имел никакого и только усердно раздавался автором среди знакомых. А знакомые, очевидно, отнюдь не усердно хранили этот дар у себя на полках. Вот книжка и сделалась редкостью.
Когда–то, в Лавке писателей, Давид Самойлович Айзенштадт, старый и умный книжник, устроил мне полное собрание первых изданий Фета. Это (с переводами) — более двадцати томов. Собрание было уникальным: все в одинаковых роскошных переплетах, оно принадлежало ранее родственникам Фета — Боткиным, известным дореволюционным чаеторговцам, на дочери одного из которых Фет был женат. На многих томах этого собрания красовались дарственные надписи Фета. Собрание было исчерпывающим по полноте, но «Лирический Пантеон» отсутствовал.
На мой вопрос: неужели же у Боткиных не было «Лирического Пантеона»? — Давид Самойлович посмотрел на меня сквозь чудовищной толщины стекла очков и осуждающе ответил:
— И не могло быть, дорогой товарищ. Афанасий Афанасьевич Фет в зрелые свои годы немедленно уничтожал эту книгу, как только она попадалась ему на пути…
К сожалению, я не нашел документального подтверждения словам Айзенштадта, но готов верить: он знал великое множество подробностей о книгах.
Позже я все–таки достал себе «Лирический Пантеон». Его уступил мне один яростный поклонник поэзии, презирающий все, что написано не стихами.
Я к таковым поклонникам не принадлежу, но первая книга поэта — всегда его первая книга и для собирателя особенно интересна.
Сам Фет так писал о своем «Лирическом Пантеоне», связанном с его первою юношеской любовью: «Ведь этот невероятный и, по умственной безмощности, жалкий эпизод можно понять только при убеждении в главенстве воли над разумом. Сад, доведенный необычно ранней весной до полного расцвета, не станет рассуждать о том, что румянец, проступающий на его белых благоуханных цветах, совершенно несвоевременен, так как через два–три дня все будет убито неумолимым морозом»14.
* * *Последней книгой, имеющейся у меня в этом любопытном разделе библиотеки, я считаю «Упырь», сочинение Краснорогского.
Напечатана книга в Петербурге, в типографии Фишера, в 1841 году. Фронтиспис и обложка украшены очаровательной картинкой, резанной на дереве в Париже.
Краснорогский — это Алексей Константинович Толстой, известный русский поэт, назвавшийся так в первой напечатанной им книге по месту своего рождения в Красном Роге.
Было тогда А. К. Толстому двадцать три года, и всякая фантастика на него производила неотразимое впечатление. «Упырь» — это прозаический длинный рассказ, наполненный всякой чертовщиной, довольно забавный по содержанию.
Б. Маркевич, напечатавший в восьмидесятых годах в «Русском вестнике» неизданный юношеский рассказ Толстого «Семья вурдалака», писал, что «в те же молодые годы напечатан был им (А. К. Толстым) по–русски, в малом количестве экземпляров и без имени автора, подобный же из области вампиризма рассказ, под заглавием «Упырь», составляющий ныне величайшую библиографическую редкость» 16.
Вот, собственно, вся история этой книги. Остается добавить, что сам А. К. Толстой не придавал этой ранней своей книжке ровно никакого значения и не перепечатывал ее до конца жизни. Произведение это лишь в 1900 году вторично увидело свет, перепечатанное Вл. Соловьевым, также отмечавшим редкость первого издания «Упыря».
Однако книжку эту в свое время не пропустил В. Г. Белинский. Не зная ничего об авторе, он с гениальной прозорливостью не только приветливо ее встретил, но и предсказал, что автор займет видное место в русской литературе. Сквозь юношескую незрелость увидел он «во всем отпечаток руки твердой, литературной» и нашел в авторе «решительное дарование» 17'.
В этой же рецензии Белинский высказывает мысли, которыми смело можно закончить обзор судьбы некоторых ранних книг русских писателей. Белинский пишет, что молодость — «это самое соблазнительное и самое неудобное время для авторства: тут нет конца деятельности, но зато все произведения этой плодовитой эпохи в более зрелый период жизни предаются огню, как очистительная жертва грехов юности».
«Исключение остается только за гениями», — пишет далее Белинский, напоминая, однако, что «…и ранние произведения гениев резкою чертою отделяются от созданий более зрелого их возраста…»
Как все это верно! И как хочется еще раз подивиться мужеству и решимости русских писателей, не задумывавшихся предавать огню или забвению свои же собственные книги, если они, по их мнению, оказывались не достойными остаться в памяти.
Здесь даже нельзя сослаться на то, что это делалось только под влиянием неблагожелательной критики. О гоголевском «Ганце Кюхельгартене», помимо разносных статей, был и очень сочувственный отзыв О. М. Сомова в «Северных цветах» на 1830 год. Сомов писал, что в «сочинителе виден талант, обеспечивающий в нем будущего поэта». Гоголь, если бы захотел, мог поверить ему, а он не поверил! Дорога стихотворца не стала его дорогой.
Не все не понравилось Жуковскому в «Мечтах и звуках» Некрасова, о книге Лажечникова не было печатных отзывов вовсе, «Парашу» и «Разговор» Тургенева, равно как и «Упырь» Алексея Константиновича Толстого, Белинский, наоборот, похвалил. Появилась, кроме отрицательной, и сочувственная статья о «Лирическом Пантеоне» Фета.
Ясно, что не только в отзывах дело! Вопрос заключается в личном понимании писателями качества своего труда. Высокая требовательность к себе, к своим произведениям — всегда была замечательной чертой русских литераторов.
Книги, о которых я попытался рассказать здесь, служат чудесным этому подтверждением.
* * *Книгу «Упырь» Алексея Константиновича Толстого подарил мне другой Толстой — Алексей Николаевич. Думается, что об этом уместно здесь рассказать.
Познакомил меня с Толстым мой друг — режиссер Давид Гутман. Это было в 1925 году в «Аквариуме», где шли спектакли Театра сатиры, представлявшего злейшую пародию на пьесу А. Н. Толстого и П. Е. Щеголева «Заговор императрицы». Достаточно сказать, что пародия называлась «Ой, не ходы, Грицю — на заговор императрицы». Жена моя, артистка этого театра С. П. Близниковская, изображала Вырубову, кстати, тоже очень смешно.
Несмотря на то, что и сам Толстой и его соавтор Щеголев весь спектакль хохотали громче всех, пришли они за кулисы знакомиться с актерами чуточку злые. Давид Гутман представил меня Толстому как книжника, и я, искренне любуясь импозантной фигурой Алексея Николаевича, не нашел ничего умнее, как сказать ему:
«Мечтаю, Алексей Николаевич, о вашей книге с автографом…» Толстой посмотрел на меня и, выдержав паузу, громко, так что слышали все, рявкнул:
— Непременно! К следующей встрече, молодой человек, купите на развале моего «Князя Серебряного» — я надпишу!
И затрясшись от приступа, на этот раз уже искреннего хохота (а как он хохотал!), хлопнул меня по плечу и сказал: