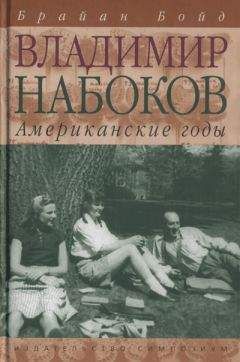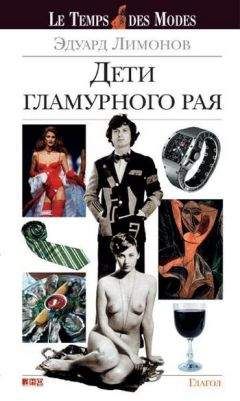Вадим Сафонов - Земля в цвету
— Да мне вовсе тогда неизвестно было употребление чулок!
А когда его спрашивали, что он успел изучить в духовной академии, он совершенно серьезно басом отвечал:
— Гуммиластику!
«Гуммиластикой» была в его глазах не только гомилетика (учение об искусстве церковных проповедей), но и вообще любая «наука» из числа тех, что входили в «академический» курс.
Свою летнюю практику в 1870 году он решил проводить дома. Из «достопримечательностей» там была только речка Качня. Выбор места для практики изумил многих сокурсников. Качня! Они мечтали если не о каньонах Колорадо, то о зубцах Ай-Петри, Кунгурской пещере, заоблачном Памире, вулканах Камчатки. Земля казалась им интересной только там, где обнажен ее гигантский костяк, где вздыблена и окаменела она в родовых содроганиях. Но обыкновенное ее лицо — тысячи речек Качней, как две капли похожих одна на другую!.. А этот деревенский кряжистый парень Докучаев как раз находил, что тем Качня и интересна, что их тысячи, что на миллионах квадратных верст земля вот такая, и ею-то, именно ею, живут все люди, она, вот такая, родит хлеба, весело зеленеет кудрявыми лесами, а копнешь ее — конца не сыщешь жирному чернозему… И еще находил поистине удивительным Докучаев, что о каких-нибудь глетчерах Гренландии и гейзерах Новой Зеландии наука имеет сказать гораздо больше и нечто значительно более вразумительное, чем об этой неоглядной, со всех сторон нас окружающей земле, которую народ называет святым словом: Мать.
Итак, он занялся Качней. А в товарищи себе взял старого друга, односельчанина Андрея Пиуна. В главном Андрей, милюковский крестьянин, и Василий, петербургский студент, отлично понимали друг друга.
Реферат «О наносных образованиях по речке Качне» был прочитан в 1871 году в Санкт-Петербургском обществе естествоиспытателей. То была первая научная работа Докучаева.
Нищету снес. Университетский курс наук пройден блестяще. На все достало сил, да, казалось, что они еще не початы. Они играли, бродили в этой богатырской натуре, требовали дела по себе. Где оно?
Три «регулярные» дороги открывались в то время перед геологом, окончившим естественное отделение физико-математического факультета: минералогия — наука о минералах, находимых в земной коре, петрография — наука о горных породах, из которых состоит земная кора, и историческая геология. Ни одна из трех не влекла Докучаева. Напрасно смотрели на него с надеждой и палеонтологи, считавшие его почти «своим» после того, как он прогремел сделанной еще студентом замечательной находкой: он нашел костяк мамонта все на той же Качне, где, по убеждению тогдашних авторитетов, его никак не могло быть, и заставил-таки всех заинтересоваться этой смоленской речкой!
Сам же он, когда при нем поминали о мамонте, принимал наивно-удивленный вид и с озорным огоньком в глазах вопрошал самым глубоким своим басом:
— Ах, вы все про ту допотопную корову?
Вероятно, пренебрежительный тон был наигранно-преувеличенным, но в конце концов мамонт представлялся ему тоже «судорогой земли», чем-то вроде аризонского кратера…
А то, что его интересовало единственно и всепоглощающе, — это была поверхность земли, обыденная, необъятная, с которой так Тесно сплетена жизнь человека: наносы, овраги, реки и почвы, почвы. То, чем он только и хотел заниматься и что считал важнейшим для миллионов людей, — это была наука, которой не существовало. Не существовало не только в России, но и — «посудите сами — ни в Париже, ни в Оксфорде, ни в Берлине, ни в Иене!» Так уверяли его. И смысл этих уверений был тот, что науки такой не просто не существовало, но и не могло существовать.
Почва? Но с какой стороны его занимает этот тоненький горизонт земной коры? С точки зрения его происхождения? Так ведь геология может сказать, что надо, и об этом, урвав время от разбора, конечно, гораздо более сложных и важных вопросов о свитах девонских песчаников и триасовых рухляков. Какие тут секреты, в этик скучных отложениях, возникших чуть не на глазах, сегодня или вчера, во всяком случае в ту самую аллювиальную эпоху, в какую и мы живем? В них нет даже ни одной руководящей окаменелости. Отложения, которым исполнилась едва одна минута по часам, отмеряющим историю Земля!
Или состав почвы? В общем он чрезвычайно монотонен. Минералоги могут исчерпать его на двух-трех страницах своих учебников. Но есть к тому же и агрохимия. Либих…
А Докучаев, выслушивая все это, дивился, почему вещь, такую понятную Андрею Пиуну, он никак не может убедительно растолковать умным, дельным, очень много знающим и любящим свою науку исследователям: что есть коренное, резкое различие между почвой и бесплодным камнем и что различие это как раз и касается самого главного в них.
— Я понимаю вас, — говорил ему седой кристаллограф или специалист по доломитам, — вполне понимаю. Пахотный слой имеет огромное значение в жизни человечества. И в жизни нашей родины в особенности… Но, — тут голос старика наполнялся непреклонным металлом, — никогда не путайте, молодой человек, необходимость хозяйственную с необходимостью логической. То, чему единственно подчинена наука, нельзя подкупить никакой нашей земной нуждой. Пахотный слой — только одна из горных пород. Одна из тысячи. Одна из десяти тысяч. Нет никаких оснований для принципиального выделения его из этого ряда. Запомните это. Александр Гумбольдт объехал полмира и убедился, что почвы, как и все горные породы, раскиданы в беспорядке по земному шару. Над ними властна не география, а геологический произвол. Лава Геклы сходна с лавой Везувия. Гомельский огородник легко отыщет на Канарских островах точное подобие своей грядки для огурцов. Тот, кто хочет стать служителем в храме Истины, должен уметь побеждать самые прельстительные миражи.
Докучаев предпочитал более простые слова, чем такие, слишком уж высокоторжественные: храм. Истина. И он вовсе не был уверен, что кочет стать «служителем».
Тогда, усомнившись в годах, проведенных в университете, он подумал, что, может быть, еще раз надо начинать жизненный путь. Не стать ли врачом, хирургом? Ясное, без лжемудрствований, очевидно нужное дело…
Потом он хлопочет о месте учителя в Москве.
Период сомнений был непродолжителен. У Докучаева было достаточно сил не только для того, чтобы снова начать жизнь, но и для того, чтобы пробить свою дорогу в науке.
Его поддержал А. А. Иностранцев. Знаменитый геолог понял, что в голове юноши бродят не просто миражи.
— Будущее покажет, чего стоит то, что вы говорите, — сказал ему Иностранцев. — Надо уметь делом доказать истинность того, во что веришь. Прежде всего беритесь за работу.
Докучаев стал хранителем университетского геологического кабинета. Хранитель, или, как это официально называлось, консерватор. Тихая жизнь, священнодействие у полок и витрин, проверка этикеток, вероятно ранняя близорукость, незаметное и почтенное старение, с появившимися чудаческими замашками, ворчливыми нотками в голосе, в старомодном сюртуке. «Вертеть в руках какую-нибудь чурбашку и кричать по этому случаю караул», грубовато острил сам Докучаев. Нет, это не была его программа жизни.
Он ездит по Руси. По Руси крестьянских полей и светлых берез, по Руси дубрав и темных боров, среди которых медленно текут северные реки. Он шагает по финским гранитам — родным братьям того, похожего на высоко поднявшуюся и плещущую волну, на котором недвижно скачет Медный всадник.
Он ездит по поручению Общества естествоиспытателей — с 1874 года он в этом обществе секретарь отделения геологии и минералогии.
Жизнь его полна до краев кипучей деятельностью — теперь ясно, на какой неустанный, какой напряженный и многообразный труд он способен. Он изучает реки, их отложения, извивы их долин: и всюду он пристально наблюдает, запоминает, изучает землю, почву; собирает образцы. Как не сходны, как бесконечно различны они для внимательного глаза! Почвы цвета золы, каштановые, рыжие, тускло-желтые, белесые, почвы, черные мертвой, болотной чернотой, и почвы, черные другой, живой, жирно-густой, плодоносящей чернотой.
Однообразие? Монотонность? Так думали, потому что только скользили по этой радуге небрежным взглядом.
Постепенно все яснее делается для Докучаева то, в чем раньше он был убежден скорее каким-то чутьем. Теперь бы у него нашлись доводы, если бы ему пришлось еще раз выслушать поучение об Александре Гумбольдте и о почвах — отходах распри между Вулканом, Нептуном и Эолом, богом ветров? Александр Гумбольдт! Человек, проживший почти столетие, тот, кого высокопарно именовали «Аристотелем девятнадцатого века», чье путешествие на Ориноко прославили, как «второе открытие Америки», человек, кому льстиво приписывали самое создание тучной географии, — этот человек, столько написавший о ландшафтах, не видел основы основ их: земли. Он знал, что живой мир не случайная накипь на нашей планете: этому научили его леса Кассиквиари. Это он знал. Но живой мир он все-таки отторг от неживого. Он думал так: если смахнуть долой драцены Африки и лапландские мхи, то родину жирафов мы не отличим от страны песцов. Потому что как отличать мертвые скелеты, если уничтожено тело? Костяки случайны. Песок Замбези может быть и у Белого моря. Так рассуждал Гумбольдт. И «ландшафты» возникали у него в некоей пустоте. Как бы подвешенные над землей, на которой только и живет и растет все. Хороша «научная география»! Две планеты, живую и неживую, Гумбольдт так и не сумел понять как одну.