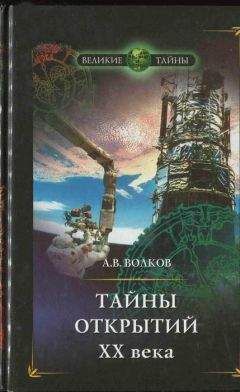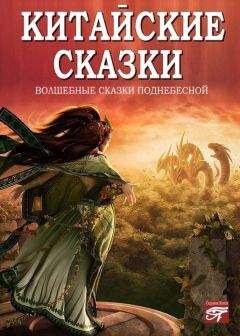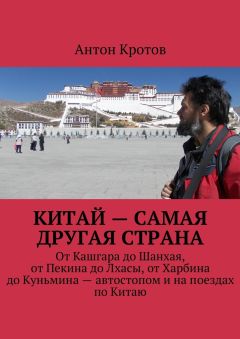Соломон Воложин - О сколько нам открытий чудных..
[Так как предмет наблюдения тут все же не только кладбище, но и самонаблюдение ходящего по нему человека, то допустимо описание и едва ли не наблюдаемой на его лице непосредственной реакции. Тут пока все же не пейзаж души.]
Но как же любо мне
Осеннею порой, в вечерней тишине,
В деревне посещать кладбище родовое,
Где дремлют мертвые в торжественном покое.
[Тут уж, конечно, пейзаж души. Но не романтический, по Жуковскому, туманно–зыбкий, как сама душа, и сделанный исключительно на ореолах значений слов, минуя их главное значение и грамматическую связь, что заимствовали потом и символисты. Нет. Тут пушкинский пейзаж души. Реалистический. Не гнушающийся главными значениями. «Осеннею» взято, конечно, для печального призвука. Но это и вполне определенная пора года. То же с «вечерней» и «в деревне», разделенными реально соответствующей им «тишине». И т. д.]
Там неукрашенным могилам есть простор;
К ним ночью темною не лезет бледный вор;
Близ камней вековых, покрытых желтым мохом,
Проходит селянин с молитвой и со вздохом;
На место праздных урн и мелких пирамид,
Безносых гениев, растрепанных харит
Стоит широко дуб над важными гробами,
Колеблясь и шумя…
Все — виденное и под контролем виденного.
И Пришвин дважды ошибся, написав, что «никто в литературе этого не сделал, кроме меня» [4, 318], а также, что “”никто» сознательно, бессознательно талантливые люди делают так «все»” [4, 318].
После Пушкина, Пушкина–реалиста, — может, и все бессознательно талантливые так делают. Но до него — никто. Ни сознательно, ни бессознательно талантливые. Это открытие Пушкина–реалиста для русской литературы: соединить открытые романтиком Жуковским обертоны смысла слов с господствовавшими в классицизме только главными смыслами слов [2, 107].
Конечно, для просто символистов, залетавших за облака в своем стремлении к туманно–недостижимому это открытие Пушкина–реалиста было мало нужно. Но в конце жизни Пушкин, — от осознания утопичности своего последнего идеала (идеала консенсуса в сословном обществе), — стал как бы реалистическим символистом.
В процитированном стихотворении художественный смысл заключается, конечно же, не в удержанной под контролем виденного на двух кладбищах мысли, мол, вот что такое хорошо и что такое плохо на том свете. Это было бы прочтением «в лоб».
Художественный смысл тут в исканиях сейчас того недостижимого, что будет когда–то на этом, а не том свете. Нисколько не обнаружило себя автору то сверхбудущее. Пока непостижимо, а не только недостижимо. Но, судя по методу «держать всегда под контролем виденного», судя по нему, постижение недостижимого возможно. И все это есть некий реалистический символизм. И именно он является предшественником Пришвина, осознавал Пришвин это или нет. А так как мыслимы и неосознаваемые литературные влияния, то так, видно, тут и есть.
Нынче я опять не делал акцент на столь любимых мною противоречивых элементах, через вызываемые ими противочувствия провоцирующих катарсис, то есть принципиально нецитируемый художественный смысл произведения. Но надо ли напоминать, что сама природа сравнения противоречива и страдает недостижимостью точности, что и использовал Пришвин, как я показал, во всю.
Литература
1. Гуковский Г. А. Изучение литературного произведения в школе. М. — Л., 1966.
2. Гуковский Г. А. Пушкин и русские романтики. М., 1965.
3. Кожинов В. В. Предисловие к «Записям о творчестве» Пришвина. В альманахе «Контекст·1974». М., 1975.
4. Пришвин М. М. Записи о творчестве. В альманахе «Контекст·1974». М., 1975.
Написано летом 2001 г.
Не зачитано
О художественном смысле «Тазита» А. С. Пушкина и других его произведений того же времени написания
Верный тому следствию из известного принципа Выготского о катарсисе, что катарсис, вызванный литературным творением, т. е. его художественный смысл, не может быть процитирован [2, 16], я раз вознамерился найти у Пушкина такое произведение, в котором бы воспевался, так сказать, низкий идеал, о котором Пушкин впрямую написал в 1830‑м, уже осознав его как уходящий (потому–то и можно его процитировать):
Мой идеал теперь — хозяйка,
Мои желания — покой,
Да щей горшок, да сам большой.
И еще:
Я не богач, не царедворец,
Я сам большой, я мещанин.
Искать надо было после разочарования Пушкиным в Николае I и перед началом нового очарования — утопией о всеобщем консенсусе в сословном обществе, т. е. где–то перед 1830‑м годом [2, 19]. И лучшей иллюстрацией такого низкого идеала, идеала частной жизни, без залетов, идеала, достижимого здесь и сейчас, является, по–моему, стихотворение 1829 года «Делибаш»:
Перестрелка за холмами;
Смотрит лагерь их и наш;
На холме пред казаками
Вьется красный делибаш.
Делибаш! не суйся к лаве,
Пожалей свое житье;
Вмиг аминь лихой забаве:
Попадешься на копье.
Эй, казак! не рвися к бою:
Делибаш на всем скаку
Срежет саблею кривою
С плеч удалую башку.
Мчатся, сшиблись в общем крике…
Посмотрите! каковы?..
Делибаш уже на пике,
А казак без головы.
Правда ж — сшибаются тут не только отчаянные воины, но и трагический сюжет — с легкомысленным пританцовывающим ритмом стихотворения?
В чем дело? — А в том, что Пушкин здесь не чтит ни героизма, ни насмешки над ним.
Если предположить, что Пушкин и в жизни мог заигрываться: строить ее на противоречиях — как художественное произведение, — если поверить свидетелям, что и в жизни в то время он нарывался на смерть, лез под турецкие пули, будучи в армии в ее арзрумском походе, — то ясно, что в последней глубине души его руководило такими поступками. — Прямо противоположное: желание устроить свое семейное гнездышко с Натальей Гончаровой, матерью которой его предложение дочери руки и сердца в том, 1829, году не было принято, хотя и не было отклонено, отчего Пушкин и рванул куда глаза глядят — подальше, может, и вон из жизни.
Соответственно я предлагаю понимать и «Монастырь на Казбеке»:
Высоко над семьею гор,
Казбек, твой царственный шатер
Сияет вечными лучами.
Твой монастырь за облаками,
Как в небе реющий ковчег,
Парит, чуть видный, над горами.
Далекий, вожделенный брег!
Туда б, сказав «прости» ущелью,
Подняться к вольной вышине!
Туда б, в заоблачную келью,
В соседство Бога скрыться мне!..
А правда! Что мешало путешествующему поэту действительно уйти от суеты сует мира? И в стихотворении тоже нет никаких указаний на связанность чем–то лирического героя. Он свободен, а хочет… свободы. Это ли не столкновение противоречий? И не предсказанный ли катарсис вызывает так акцентированное прочтение? Именно «семьею гор» хочет быть стеснен Пушкин, ущельем…
А если взглянуть на вольный Терек, то мечтается ему, как тот пленен обвалом:
Обвал
Дробясь о мрачные скалы,
Шумят и пенятся валы,
И надо мной кричат орлы,
И ропщет бор,
И блещут средь волнистой мглы
Вершины гор.
Оттоль сорвался раз обвал,
И с тяжким грохотом упал,
И всю теснину между скал
Загородил,
И Терека могучий вал
Остановил.
Вдруг, истощась и присмирев,
О Терек, ты прервал свой рев;
[Вы не слышите блаженного стона в этом восклицании?]
Но задних волн упорный гнев
Прошиб снега…
Ты затопил, освирепев,
Свои брега.
И долго прорванный обвал…
[А прорван он был, как окажется далее, снизу, образовав снежный мост над рекой.]
И долго прорванный обвал
Неталой грудою лежал,
И Терек злой под ним бежал,
И пылью вод,
И шумной пеной орошал
Ледяный свод.
И путь по нем широкий шел:
И конь скакал, и влекся вол,
И своего верблюда вел
Степной купец,
Где нынче мчится лишь Эол [бог ветров],
Небес жилец.
И эта игра воображения лирического «я», это столкновение несуществующего с существующим говорят нам, что Пушкин не такой уж поклонник свободы и воли был в 1829 году. Он — здесь — НАД. Он здесь полностью индифферентен. Вот здесь–то уж точно <<он не принадлежит исключительно ни к какому учению, ни к какой доктрине>> [1, 259]. Вот здесь–то уж самый низ Синусоиды идеалов, точка ее перегиба, где движение этой кривой никуда: ни вверх, ни вниз — не направлено.