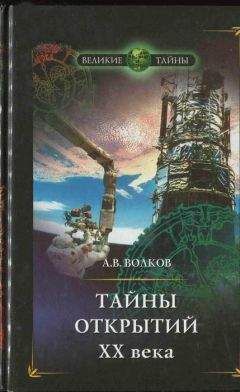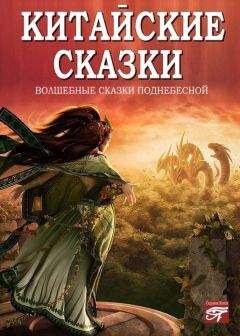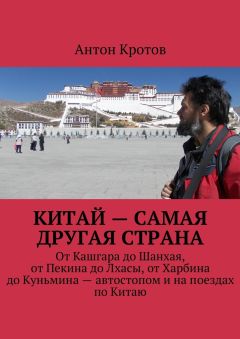Соломон Воложин - О сколько нам открытий чудных..
И вот Музиль еще в 1905 году задумал свой роман. Перед первой мировой войной стал его писать. И писал аж до второй и во время второй, не доводя действия до лета 1914‑го. Чувствовал, наверно, что вещь будет актуальна на века. И я, — со своей идеей фикс о повторяющихся в веках и изменяющихся по синусоиде идеалах (с вылетами вон с синусоиды на ее перегибах), — подтверждаю теперь, что Музиль актуален и сегодня. Мир, — западный, по крайней мере, — опять изнывает от сытости. И, — это предрекают некоторые, — человечество вступает в эпоху межцивилизационных конфронтаций (а исламская революция — первая ласточка). Мир опять находится в точке нижнего перегиба Синусоиды изменения идеалов, где от нее — Синусоиды — ответвляется вылет с нее субвниз, в неоницшеанство, в неофашизм и т. д.
Музиль каждой из ипостасей этого субниза не сочувствует. Но становиться в обличительную позу сатирика или публициста тоже не хочет: сатира ведь наиболее тенденциозный, следовательно, наименее художественный род искусства из четверки (лирики, эпоса, драмы и сатиры), а публицистика — уж и вовсе за гранью искусства. Музиль же — художник. И — он выбирает якобы почти научную, объективную точку зрения на изображаемую всеобщую тенденцию субвниз — психологизм. Читаешь роман и прямо задумываешься: не перещеголял ли Музиль Льва Толстого?
Но сколько бы ни старался Музиль быть поменьше тенденциозным и предвзятым, сколько бы ни смягчал свое презрение, гнев и к довольству, и к упоминаемой реакции на довольство, низводя свой негативизм всего лишь до тонкой иронии, до легкого юмора и умной усмешки, — автору не удается отмежеваться от главного героя, супермена Ульриха, который находит–таки приемлемый автору–индивидуалисту вариант индивидуалистического же протеста против пошлого, легко достижимого идеала средних людей.
Эта находка сюжетно полностью проявляется во второй книге. Там кстати, как рояль в кустах, вдруг появляется сестра Ульриха Агата, и они, почти незнакомые друг с другом, влюбляются друг в друга, Агата бросает мужа, Ульрих — любовницу, и они удаляются от общества (от этой Акции, единственного, что еще связывало в последние месяцы Ульриха с обществом) и уединяются в маленьком дворце Ульриха в Вене, сказав всем, что они уехали, на чем роман и заканчивается, судя по посмертной публикации 14-ти последних глав. Так что неизвестно, чем бы его закончил автор, доживи он до их публикации сам.
Знал ли Музиль в 1905‑м году, до чего он доведет своего Ульриха? — Может, и нет, судя по неожиданности вторжения в сюжет Агаты. Но уже в первой книге он всячески обелил своего любимца от всего, что могло бы ему повредить в мнении читателей.
Время, когда Ульрих был кавалеристом, дуэлянтом и совратителем жен штатских лиц, а следовательно, воплощением зла, отнесено в неописываемое романом прошлое, и автору можно отмежевываться от того имморалиста, как отмежевывается и сам нынешний Ульрих. Отстранение, угадываемое в Ульрихе, от своих современников, индивидуалистически довольных, а также индивидуалистически недовольных действительностью, совпадает с авторским, и оттого оба — герой и автор — то и дело оказываются до неразличимости похожими. Ульрих с самого начала романа показан уходящим из обычной жизни. Эскапизм — идеал и автора, и главного героя. Оба отказываются от активизма. Ульрих никому не вредит, хотя, — помнится по прошлому, — лучше себя чувствовал, если поступал непорядочно с обывательской точки зрения. Автор тоже в жизни повел себя не как другие авторы: не стал рваться к писательским гонорарам, славе, постепенно перестал писать что бы то ни было, кроме своего бесконечного романа (все — для кайфа творчества), и едва не умер с голода..
(В последнем все же он отличается от своего героя, которому он придал наследственную материальную обеспеченность и отказ от создания уже брезжившей в его уме новой школы в математике.)
Но в общем, Ульрих оказался рупором авторского идеала. А идеалом этим, — если одним словом, — стала некая нирвана для себя. Это почти впрямую заявлено в последних строках романа (из чего я заключаю, что Музиль, — проживи он дольше, — в таком же роде роман бы и закончил).
«Конечно, ему [Ульриху] было ясно, что оба типа человеческого бытия [западного, европейского, фаустовского — с одной стороны — и восточно–нефаустовского, созерцательного — с другой, как это следует из предыдущих цитируемому абзацев]… оба типа человеческого бытия, поставленные тут на карту, не могли означать ничего другого, как человека «без свойств» — в противоположность наделенному всеми свойствами, какие только может предъявить человек. Одного из них можно было назвать нигилистом, мечтающим о мечтах бога, — в противоположность активисту, который, однако, при своей нетерпеливой манере действовать, тоже в каком–то роде богомечтатель, а никак не реалист с ясным и дельным взглядом на мир. «Почему же мы не реалисты?» — спросил себя Ульрих. Они оба [он и Агата] не были реалистами, ни он, ни она, в этом их мысли и действия давно уже не оставляли сомнений: но нигилистами и активистами они были, и порою одним, порою другим, как уж складывалось».
Посмею тут поспорить с Музилем ради, как мне кажется, большей четкости того, что он сделал своим романом.
По Музилю, — если в лоб, — получается, что Ульрих (и такие, как он: например, Агата) есть человек без свойств потому, что он — то активист–ниспровергатель обычного, то созерцатель–нигилист, мысленный ниспровергатель обычного. Порою один, порою другой. То есть никакой.
Но по фабуле–то он сначала один, потом другой. И на том кончается. На другом. Конец–то весомее начала. Он — достигнутая цель. А достижение — нирвана, некое ничто. Вот потому–то и достигший, и стремившийся в это отрицание действительности и есть человек с соответствующими этому «ничто» качествами: человек без качеств.
Впрочем, это — отвлечение от мысли о главном герое как рупоре идеала автора, отрицающего действительность.
Вернемся к рупору и отрицанию действительности. Такое обстоятельство не могло не потребовать от создателя литературного произведения некоего акцента на литературности в пику жизнеподобию.
Образцом, может, и непревзойденным, разрушения литератуности является, — по Лотману, — пушкинский «Евгений Онегин». Так зато Пушкин вовсе и не отрицал действительности, когда (в середине 20‑х) разворачивал этот роман в стихах. Это у него был окончательный перелом, полный отказ от продекабристского коллективистского неприятия монархической и крепостнической российской (и вообще европейской реакционной) действительности. Нечего плевать против ветра, — как бы говорил Пушкин, прислушиваясь к естественности, к здравому смыслу якобы пошлого большинства.
А Музилю была противна и подобная естественность, и все обратившиеся против той противоестественности. За исключением противоестественности созерцательной.
Так, благодаря Лотману и Пушкину, я понял все, что не похоже на жизнь, всю нарочитую литературность Музиля.
Смотрите.
Ну мыслимо ли, чтоб хулиганистый мальчишка, Ульрих, — плавно превратившийся в хулиганистого кавалериста, — разочаровавшись в армии, не позволяющей ему безобразить вволю, стал довольно преуспевающим инженером, а потом математиком, последняя, так и не опубликованная работа которого позволяла ему сказать о себе, «что я, вероятно, не без основания мог бы считать себя главой новой школы»? — Как говорится, только в кино такое может быть. Или: мало ли, что можно в книжке намолоть…
Но Музилю нужно было, чтоб Ульрих, разочаровавшись в возможностях аморальной активности, на пути к нигилистической созерцательности и индивидуалистической нирване прошел бы какую–то промежуточную выучку в областях, удаленных от вопросов моральности–аморальности. И — Музиль, ничтоже сумняшеся, провел своего героя через эти ступени. Ретроспективно. В воспоминаниях. И очень общо. Так, что неинженеры и нематематики, пожалуй, и не заметят вопиющей неестественности внешней стороны такой биографии героя.
А если кто заметит? — Музиля, похоже, устраивает, что заметившие эту накладку поймут внутреннюю необходимость ее. Ведь такие развитые читатели не осудят литературность как таковую.
То же — с понятливостью в отношении абстракций невежественной, — по ее беспощадной самооценке, — Агаты. Музилю ж нужно, чтоб недопустимая обществом (да пока и Агатой с Ульрихом) полноценная половая любовь этой пары выражала себя в бесконечных разговорах и не больше. Вот Музиль и сделал необразованную Агату интеллектуалкой.
Впрочем, интеллектуальны в этом интеллектуальном романе все герои (кроме слуги Арнгейма и служанки Диотимы — для создания, видно, точки отсчета). Итак, интеллектуальны все, чего в жизни, конечно, не бывает. Но Музилю и это нужно. Он же их всех не переносит. Или за пошлое довольство, или за не менее пошлый индивидуалистический бунт от пресыщения тем довольством. Художнику же своих героев надо любить. Что делать? Вот Музиль и отыгрывается — хотя бы наделением их интеллектуальностью. Кроме того ему ж нужно, — объективистски хотя бы, — показать, как трудно люди меняют идеалы в преддверии кризиса.