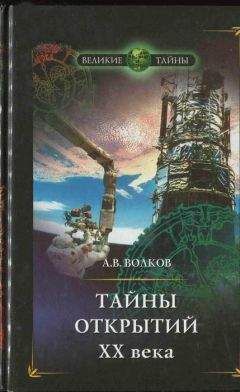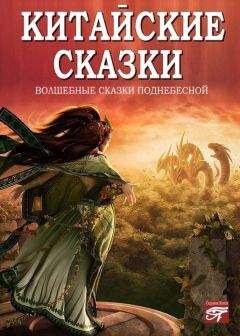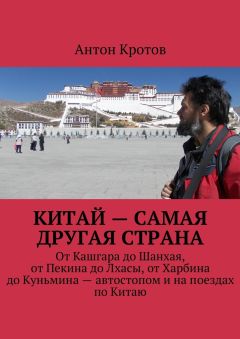Соломон Воложин - О сколько нам открытий чудных..
Однако и к Архангельскому у меня претензия: почему он не говорит прямо о катарсисе, который вызывают контраст и столкновения одического и прозаического? Ведь Выготского: его противочувствия и катарсис от их столкновения — так редко используют для вскрывания художественного смысла, так редко акцентируют, что есть противочувствия, а что — катарсис. Неужели это из боязни засушить исследование?
Вон уже почти впрямую Архангельский пишет о противочувствиях: <<а почему не предположить, что Пушкин… может, любя героев [Петра и Евгения], не соглашаться ни с одним из них и… намечать путь к своей истине?>> [1, 6] Чего ж Архангельский остановился и не назвал истину Пушкина, идеал его тогдашний, консенсусом в обществе, консенсусом между государством и человеком? — А потому не сделал этого Архангельский, что, сказавши А о Выготском, необходимо говорить и Б: невозможность процитировать художественный смысл. Но это как–то слишком непривычно… И поэтому Пушкин, мол, линь намечает в «Медном Всаднике» путь к своей истине. Надо Пушкину написать пером на бумаге эквивалент консенсусу в обществе — «с подданным мирится» — в «Пире Петра Первого» (1835), чтоб для Архангельского своя, пушкинская истина в «Медном всаднике» из намеченной превратилась в явленную: <<Лишь создав стихотворение «Пир Петра Первого», Пушкин найдет однозначное, действительно примиряющее все стороны… решение. Но это произойдет спустя два года после…>> [1, 21]
А может (я лишь предполагаю) в «Пире Петра Первого» опять не написанное «мирится» есть художественный смысл, идеал, в том смысле идеал, что достижим? Может, само столкновение там совершенного наклонения глаголов с тем, что описывается былое, тоже что–то значит? И сама внешняя бодрость настроения тех стихов, может, есть результат горечи от недостижимости идеала не только в его, Пушкина, жизни, а и Бог весть когда. И может, сама тяжесть концовки:
Оттого–то в час веселый
Чаша царская полна
И Нева пальбой тяжелой
Далеко потрясена —
может, сама эта тяжесть в столкновении с веселостью что–то сомнительное рождает… типа «Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь»… И тогда идеал консенсуса удаляется в какое–то совершенно неопределенное будущее и уже не утопией является, а чем–то другим.
Но это лишь отвлечение.
Я еще ставлю в упрек Архангельскому, что он смазал свое рассуждение о неявно–полемическом смысле [1, 9] Предисловия. Ведь из того, что не Берх, а первоначально Булгарин в «Северной пчеле» был автором журнального известия о петербургском наводнении, много чего следует.
Пушкин же Булгарина не выносил. А тот был выразителем переживаний того мещанского (а среди дворян — мещанствующего — особенно после декабрьского восстания) болота [4, 84], которое Пушкину было непереносимо в те годы из–за такой же неориентированности болота на консенсус с высоким, государственным, общенародным, как российскому государству не свойственно было тогда (как и теперь, как и всегда) ориентироваться на низкое, мелкое, частное, личное (если речь идет о маленьких людях).
В то же время Предисловие действительно является прямыми словами гражданина Пушкина, Булгарина еще и лично не переносившего к тому времени. Это все знали.
Пушкин не мог субъективно–личное вносить в Предисловие художественного произведения. А оппозицию свою, — как деятеля культуры, — оппозицию не только государственному началу, но и животно–приземленному частному выразить хотелось. Вот он и переименовал Булгарина в Берха.
Надо еще остановиться на третьей «группе» толкований «Медного Всадника», на <<трагической неразрешимости конфликта>> [1, 5]. (Первая «группа» — «государственная», вторая — «гуманистическая».) Так вот — третья. <<Пушкин, как бы самоустранившись, предоставил самой истории сделать выбор между двумя «равновеликими» правдами — Петра и Евгения, т. е. государства и частной личности>> [1, 5]. Сам Архангельский к ней не примыкает. Но его острое замечание, что когда ставку делают и на Петра, и на Евгения, то, вспоминая полифонизм Бахтина, <<истолкователь… волевым актом отстраняет автора от непосредственного руководства>> [1, 6], — это замечание заставляет меня насторожиться по двум причинам. Во–первых, разве Достоевский, в применении к которому Бахтин ввел полифонизм, был Бахтиным отстранен от непосредственного руководства? Во–вторых, надо ж понадежнее отмежеваться от вывода третьей группы о самоустранении Пушкина. Ведь третьи–то, захоти они привлечь Выготского, могли б сказать: «Вот. Петр и Евгений это противочувствия. А катарсис и есть пушкинское самоустранение, непредвзятость, объективность». И самое серьезное, что в этих–то качествах и состоит суть того ультрареализма, к которому относил Пушкина Белинский словами: <<…он не принадлежит исключительно ни к какому учению, ни к какой доктрине…>> [3, 259], — забывая, что Пушкин был очень разный.
Мог ли Пушкин, — пережив в годы сватовства идеал Дома («Мой идеал теперь — хозяйка»), с которым можно соотнести и ультрареализм, — мог ли Пушкин спустя столько лет вернуться — вспять по органически развернувшейся синусоиде его идеалов — вернуться вдруг к непринадлежности ни к какому учению, когда он уже три года как был утопист от консенсуса людей? — Не мог.
А вот быть предтечей Достоевского с его полифонизмом — мог.
Только не надо, вслед за третьей группой и самим Архангельским, отстранять автора по поводу использования автором полифонизма.
Назначая Пушкину любить и не любить и Петра, и Евгения и тем намечать путь к своей правде, Архангельский восходит, по–моему, к Платону, как это понимал Бахтин: <<взаимоотношения между познающими людьми, создаваемые различною степенью их причастности идее, в конце концов погашаются в полноте самой идеи>> [2, 197].
Бахтин считал непродуктивным уподоблять диалог Платона с диалогом Достоевского [2, 197]. Почему? Во–первых, потому что диалоги у Платона диалектичны, а у Достоевского — нет. <<…в корне ошибочно утверждение, что диалоги Достоевского диалектичны. Ведь тогда мы должны были бы признать, что подлинная идея Достоевского является диалектическим синтезом, например, тезисов Раскольникова и антитез Сони, тезисов Алеши и антитез Ивана и т. п. Подобное понимание глубоко нелепо. Ведь Иван спорит не с Алешей, а прежде всего с самим собой, а Алеша спорит не с Иваном как с цельным и единым голосом, но вмешивается в его внутренний диалог, стараясь усилить одну из реплик его… Объектом авторских интенций вовсе не является… совокупность идей сама по себе, как что–то… себе тождественное. Нет, объектом интенций является как раз проведение темы по многим и разным голосам, принципиальная, так сказать… многоголосость… Повсюду — пересечение… или перебой реплик…>> [2, 196–197]. Диалектики, как видим, нет.
Вот и у Пушкина, даже во Вступлении, — как мы видели, — все перебои и перебои. И Евгений у него не только одический в момент бунта:
Стеснилась грудь его. Чело
К решетке хладной прилегло,
Глаза подернулись туманом,
По сердцу пламень пробежал,
Вскипела кровь. Он мрачен стал… —
(слова–то какие: «чело», «пламень», «вскипела кровь», «мрачен»), у Евгения не только одический, но и противоположный момент:
И с той поры, когда случалось
Итти той площадью ему,
В его лице изображалось
Смятенье. К сердцу своему
Он прижимал поспешно руку,
Как бы его смиряя муку…
То, что Бахтин называет: <<идеологические воззрения… также внутренне диалогизированы>>. Вот он — полифонизм.
Другое отличие всех диалогов от полифониста Достоевского: у всех герои облечены в семейную и сословную плоть, а у Достоевского — нет [2, 197]. Они как бы голые. <<Человек как бы непосредственно ощущает себя в мире как целом, без всяких промежуточных инстанций, помимо всяческого социального коллектива, к которому он принадлежал бы. И общение этого я с другим… происходит прямо на почве последних вопросов… Герои Достоевского — герои случайных семейств и случайных коллективов. Реального, само собою разумеющегося общения, в котором разыгрывалась бы их жизнь… они лишены… герои Достоевского движимы утопическою мечтой создания какой–то общины людей по ту сторону существующих социальных форм. Создать общину в миру, объединить несколько людей вне рамок наличных социальных форм стремится князь Мышкин, стремится Алеша, стремятся в менее сознательной и отчетливой форме и все другие герои Достоевского. Община мальчиков, которую учреждает Алеша после похорон Илюши как объединенную лишь воспоминанием о замученном мальчике и утопическая мечта Мышкина соединить в союзе любви Аглаю и Настасью Филипповну, идея церкви Зосимы, сон о золотом веке Версилова и «смешного человека» — все это явления одного порядка. Общение как бы лишилось своего реального тела и хочет создать его произвольно из чисто человеческого материала>> [2, 197–198].