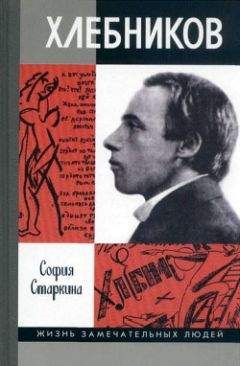Мортимер Уилер - Пламя над Персеполем
Существенно, что подобные храму Барабара скальные сооружения не встречаются в Индии до эпохи Маурьев. Зато в них можно усмотреть генетическое родство с гробницами, вырубленными в персидских и индийских скалах в VII в. до н. э. или даже ранее. Видимо, Ашока усвоил персо-мидийскую традицию, приспособив ее к индийским нуждам и представлениям. Чрезвычайно напоминает местные постройки из дерева и тростника уже самый древний храм в Барабаре, хотя он и отмечен прикосновением персидской строительной техники (вспомним полированные поверхности камня). Другой скальный храм, Ломас Риши, представляет собой продолговатый сводчатый зал, в который ведет отделанная под дерево дверь индийского стиля, украшенная резьбой и скульптурой, исполненной весьма тщательно и с большим мастерством. Еще одно пещерное сооружение, Судама, выглядит как зал с коробовым сводом; в дальнем углу зала находится святилище, имитирующее в камне круглую хижину с дощатыми стенами и тростниковой кровлей. Все это, разумеется, отполировано до зеркального блеска. Поздняя скальная архитектура гораздо более изыскана, но и тут мы постоянно отмечаем удивительное свойство индийского мышления — способность перенимать, преображая.
Говоря о пещерных храмах, следует отметить и другие черты индийского строительства эпохи Маурьев, указывающие на его близость к ахеменидской архитектуре. Правда, говорить придется скорее о волнующих намеках, нежели о точных и недвусмысленных указаниях. Как в Индии, так и в Персии архитектурное мышление определялось ведущим строительным материалом — деревом и необожженным кирпичом. В обеих странах камень использовали только как более прочный материал для передачи форм, заранее и досконально разработанных в дереве. Конечно, индийцы и персы были достаточно искусными мастерами, имея дело с простой прямостоящей конструкцией, то есть, решая относительно несложную проблему распределения вертикального веса с наименьшим боковым отклонением. Но в целом для их построек типична одна особенность, а именно: детали из камня не выглядели обязательными в архитектурно-декоративной системе здания, они не обусловлены конструктивными требованиями или художественной традицией. Бесспорно, это сходство может оказаться случайным, несмотря на всю его очевидность. Продолжим, однако, сравнения. Херцфельд пишет: «Мидийские каменщики, желая изготовить лестницу, колонну или окно, составляли из отдельных камней некое нагромождение, отвечавшее их замыслу размером и очертаниями, после чего тесали из этой рукотворной скалы то, что требовалось. Так поступает скульптор, вырубающий фигуру из монолита. Объект не разделяли на структурные элементы, с тем чтобы придать каждому форму, продиктованную их назначением. Ремесло иранского каменотеса никогда не удалялось от своего истока — обработки цельной скалы». Он добавляет также, что у греков «форма всегда функциональна. Этот принцип совершенно незнаком иранской архитектуре». Все это очень напоминает приемы индийских мастеров. Вплоть до средневековья здесь складывали храмы из неотесанных каменных блоков и затем придавали им задуманную форму (см., например, постройки средневековой Ориссы; впрочем, традиция восходит к более ранней эпохе). Храм, воздвигнутый на поверхности земли отличался от высеченного и скале тем, что для первого нужно было добыть в карьере и доставить на строительную площадку материал, а также тем, что оформить здание требовалось не только внутри, но и снаружи. Так, в индийском зодчестве наметился разрыв между искусством камнереза и замыслами архитектора, что придавало демонстративный, вызывающе независимый характер скульптурному декору. Это в лучшем случае. Но бывали и худшие, когда здание понимали — позволим себе сравнение из нашего быта — как альбом для марок или афишную тумбу. Персидские рельефы не казались столь пышными и причудливыми, быть может, из-за их известной статичности. Хотя нередко и там боги, цари, воины и данники бредут нескончаемой торжественной процессией вопреки логике архитектурных пространств, частью которых, и отнюдь не самой существенной, они были задуманы. Впрочем, это не относится к рельефам лестниц.
И еще одно замечание о персидском наследстве, доставшемся Индии Маурьев. Мы уже говорили о том, что Ашока использовал придорожные скалы и стены домов для пропаганды своих политических и этических идеалов. Думается, и тут не обошлось без влияния Ирана. Царских надписей, выбитых на камне или металлических досках, Индия не знала до Ашоки, они появляются здесь только в его правление, начиная с 257 г. до н. э. Однако Бехистунская, или Бисутунская, надпись Дария I в Западной Персии датирована 518 г. до н. э. Грозные директивы и хвастливые мемории персидских деспотов совсем не похожи на мягкие, хотя и настойчивые, призывы императора-буддиста, но способ явно заимствован и, разумеется, преображен.
К этому ряду культурных заимствований можно причислить знаменитые песчаниковые колонны, которые воздвигал Ашока уже после того, как принял буддизм. Всего колонн было не менее тридцати; скульптурная их символика достаточно ясно давала понять, с какой целью они установлены. Все же некоторые из них император позднее снабдил надписями, содержавшими благочестивые увещания, подобные тем, что известны нам по его же большим наскальным эдиктам. К тому времени, если не раньше, такие колонны были прямо связаны с проповедью буддийской веры и морали. Возможно, первоначальное их значение не было столь конкретным. Сооружение одиночных колонн, бесспорно, местная традиция. На классическом Западе памятники такого рода встречаются до времен Римской империи. Правда, культовые обряды минойского Крита включали поклонение столпу. Известна также колонна между двумя геральдическими львами над воротами в Микенах; символическое значение этой колонны, датированной приблизительно XIII в. до н. э., до сих нор не получило сколько-нибудь удовлетворительного истолковании. В Индии же памятные деревянные столпы воздвигали и в XIII в. до н. э. и, может быть, еще раньше. Уже ведическая литература сообщает об этих посвятительных йупа. Их могли ставить также в ознаменование победы или других важных событий. Столп в индийской космологии означал ось мироздания, соединявшую небо и землю. Согласно древней легенде, высоко в Гималаях есть озеро, из глубин его каждое утро восходит гигантский столб, вершина которого поддерживает трон солнечного божества; он достигает зенита и во второй половине дня начинает медленно погружаться в сумрак священных вод. Кругом озера стоят четыре изваяния — лев, лошадь, бык, слон — стражи четырех сторон света. Эти мифологические представления отразились, например, в сложной капители времен Ашоки — Сарнатхской, ныне ставшей государственной эмблемой Индии. Четыре грозных персидских льва, которые казались еще более грозными, когда глаза их сверкали драгоценной инкрустацией, поддерживали солнечный диск, что должно было выражать мировой порядок (рис. 25). Львы установлены на круглой абаке[40], но широкому ребру которой расположены четыре других, второстепенных, солнца и четыре изображения упомянутых животных. Возможно, колонны Ашоки целиком связаны с его буддизмом, но их символическое значение восходит к самым древним индийским традициям.
В то же время архитектурные и скульптурные особенности этих колонн явно заимствованы. Несмотря на то что нигде, кроме Индии эпохи Маурьев, такие колонны не встречаются до III в. до н. э., тем не менее элементы, их составляющие, указывают на влияние искусства Ахеменидов. Все они отполированы по-персидски, до блеска, все суживаются кверху, имея средний диаметр 3 фута и высоту более 40 футов. У них нет каннелюр, как у персепольских, но колонны в Пасаргадах тоже не каннелированы. Базы отсутствуют, зато есть лотосовидные колоколообразные капители, напоминающие канители Персеполя. Над ними круглая абака несет изваяние какого-нибудь из четырех мифологических зверей или, как в Сарнатхе, группу львов, державших первоначально священное колесо из золоченой бронзы. Эти львы — во всяком случае с капители Сарнатха — явились в Индию прямо из ахеменидской Персии (рис. 20), а туда из Ассирии VIII и VII вв. до н. э. (прекрасные ассирийские образцы можно увидеть на резной слоновой кости, найденной профессором М. Е. Л. Маллованом в Нимруде на берегах Тигра). Но не в Ассирии начинается генеалогия этих царственных геральдических зверей; мы обнаруживаем их еще далее, в классическом искусстве Восточного Средиземноморья, в частности на гомеровских львиных воротах в Микенах. На всем этом громадном протяжении времени и пространства они сохраняют фамильное сходство, лишь слегка измененное местными художественными вкусами.
Надо отметить, что по сравнению со своими родичами, весьма натурально изображенными на ассирийских рельефах (знаменитые «Львиные охоты»), и столь же выразительными быками, слонами и лошадьми буддийской скульптуры, с которыми они находятся в тесном соседстве и композиционной взаимосвязи, львы Сарнатхэ нее же более условны, геральдичны, и это резко отделяет их от мира повседневности. Такая трактовка объясняется, конечно, тем, что лев — традиционный символ царского достоинства и власти; самого Будду именовали «львом из рода Шакия». Архаический и возвышенный образ, закрепленный многовековой практикой искусства, не располагал художника к свободе вариации. Но мне приходило в голову и другое соображение. Бык, лошадь, слон — все это привычные домашние животные и модель, легко доступная художнику. Иное дело лев. Теперь их здесь немного, сотни две на небольшом участке, на западе Индийского полуострова, хотя, конечно, в те времена львы обитали во многих районах Индии. Но, считался ли лев редкостным или вполне заурядным хищником, моделью он был неудобной, слишком подвижной и свирепой. Перед художником открывались две возможности — или следовать традиции, или быть съеденным. Автор геральдической группы Сарнатха выбрал, по-видимому, первую. Как бы там ни было, по тон или по иной причине, но геральдическая трактовка льва победила.