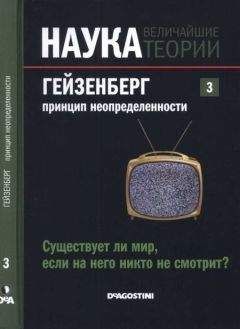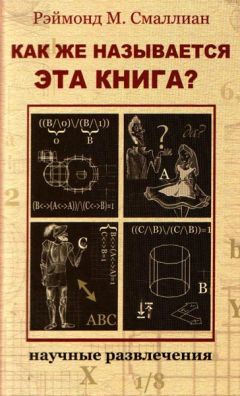Грэм Робб - Жизнь Гюго
Трансатлантический кабель, которым Гюго однажды воспользовался как образом для сообщения с Богом{1450}, гудел от заголовков: «Гюго умер», «Виктор Гюго пересекает реку смерти и входит в темную долину». «Финита. Жизнь Виктора Гюго должным образом завершилась»{1451}.
В Париже весть о его смерти распространилась со скоростью слухов. Отели были переполнены; в предместьях подонки общества, на которых всегда можно рассчитывать, когда рушится существующий строй, готовились праздновать самый пышный день рождения.
Глава 24. Бог (1885)
30 мая, в субботу, в половине шестого утра небольшая группа людей собралась на площади Пантеона; они смотрели вверх на храм, который до недавнего времени назывался церковью Святой Женевьевы, небесной покровительницы Парижа. Высоко над Латинским кварталом рабочий обрубал поперечины креста{1452}.
Парламент срочно издал указ, по которому Пантеон снова посвящался культу «великих людей». Богу отдали приказ о выселении; в его храм въезжал Виктор Гюго. Атеисты и священники в газетах осыпали друг друга оскорблениями. В день похорон Виктора Гюго заказывали дополнительные молитвы.
Пантеон секуляризировали уже четвертый раз. Когда-то там лежали останки Вольтера и Руссо. В годы Реставрации их предположительно выкинули в ближайшую сточную канаву. Далее в здании находился склад боеприпасов, затем штаб-квартира коммуны. Правительственные войска расстреляли на его ступенях депутата-миротворца. Кровь смыли, из внутреннего зала, похожего на склеп, вымели хлебные и табачные крошки, оставшиеся после коммунаров, и Пантеон вернули католической церкви. Подходящий памятник последним ста годам французской истории!
В наши дни часто можно слышать, как туристы, ежась на ветру, который дует в пустых пространствах Пантеона, спрашивают, для чего он нужен. Пантеон был одним из наименее любимых зданий Гюго, этаким собором Святого Петра для бедных, полностью лишенным «священного ужаса». Гюго сравнивал его с гигантским бисквитным тортом{1453}.
Пантеону предстояло стать местом его последнего упокоения. В Третьей республике один бог, победивший на выборах, стоил другого, и Виктор Гюго имел неоценимое преимущество потому, что был исключительно французским.
К сожалению, к тому времени, когда закон прошел все стадии согласования в верхней и нижней палатах, Гюго превратился в тот постыдный предмет, который он описывал как «безымянное нечто», – в гниющий труп. Вечером в субботу, тридцать часов спустя после смерти, тело забальзамировали, в сонную артерию ввели раствор хлорида цинка. Его запавшее лицо снова приобрело узнаваемое выражение, которое можно со всем основанием назвать «безмятежным»{1454}.
Но десять дней отделяли его смерть от похорон. Пришлось отказаться от мысли выставить его лицо перед обожающей толпой. Католические газеты злорадствовали. Как обычно в таких случаях, они писали о необычно «быстром разложении тела»: Виктор Гюго распадался на части – он оказался гораздо менее стойким, чем средний христианин.
«Виктор Гюго был величайшим поэтом нашего века.
Он был безумен более тридцати лет [после своего «обращения» в социализм. – Г. Р.].
Да послужит его безумие ему оправданием перед Господом.
Мы должны жалеть тех, кто собирается прославлять и канонизировать его. Помолимся за него»{1455}.
Католик Леон Блуа, возможно вспомнив стихотворение Гюго «Мазепа», предложил протащить его труп по улицам на трехкилометровом канате и разбросать куски по всему городу, разделив таким образом его останки в равных долях между всеми почитателями{1456}.
Родственников осуждали и с другой стороны – за отказ выдать мозг{1457}. Утрачена была ценная научная возможность. Многие ставили Гюго диагноз «врожденное безумие». Физиологам пришлось довольствоваться посмертной маской, которая оказалась на удивление красноречивой: «Расстояние между глазами: 31 мм». «Длина носа: 38 мм». «Все измерения в ширину выше среднего». Нос называли «толстым», а губы «довольно сильными». Знаменитый «лоб гения» обязан был своим видом «преждевременному облысению». К сожалению, несмотря на склонность Гюго к антитезам, он оказался «асимметричным»: «Левое ухо слегка выше, чем правое». В целом «почти средний мозг, в котором преобладают органические представления и представления, связанные с аппетитом, поддерживаемые крайне пылким темпераментом»{1458}. Вот вам и загадка творческого гения!
Один из нескольких сотен некрологов в британской прессе заверял читателей: «Понять жизнь Виктора Гюго – значит понять жизнь девятнадцатого века»{1459}. Примерно то же можно утверждать о десяти днях после его смерти. Пока его тело ждало погребения в тройном гробу с фотографиями детей и внуков, розами из Вилькье и бронзовым медальоном, на котором было выгравировано лицо Вакери, в городе творилось нечто необычное.
24 мая на кладбище Пер-Лашез было ранено от 50 до 80 человек и несколько человек были убиты в «стычках» с полицией: первые политические убийства в Париже с 1871 года. Жертвы отмечали годовщину резни коммунаров. Сообщали и о росте активности в анархистских кружках. Боялись, что похороны Гюго – как и другие похороны в прошлом – послужат сигналом к восстанию. Парламент одобрил выделение специальной суммы на похороны – 20 тысяч франков. Часть этой суммы должна была пойти на охрану республики. Весь мир наблюдал за происходящим. Три полка, сопровождавшие Гюго к месту его последнего упокоения, присутствовали на похоронах не только ради пышности.
Все шло хорошо до ночи накануне похорон. Гроб с останками Гюго поставили под Триумфальную арку на огромный катафалк, украшенный огромной монограммой:
В «Лакруа» его назвали «тельцом в человеческом облике», имея в виду традиции Марди Гра. Саму Триумфальную арку увили черным; ее охраняли конные факельщики и освещал электрический свет.
Когда в 1840 году во Францию вернули прах Наполеона, Гюго восхищался «красотой» катафалка, обрамленного Триумфальной аркой. Он был бы доволен, если бы увидел себя в таком же положении, затмевающим заходящее солнце. Все согласились, что зрелище получилось впечатляющее, особенно издали: все было проделано в большой спешке. Вблизи заметна была непрочность театральных декораций.
С наступлением темноты район вокруг Триумфальной арки все больше походил на ярмарочную площадь. Тысячи горожан стекались туда, чтобы поглазеть на бесплатный спектакль: Виктора Гюго. Раньше все могли видеть лишь катафалк да электрическое освещение. Находившийся неподалеку цирк «Ипподром» отлично заработал в тот день. Армия уличных торговцев продавала сувениры, связанные с Гюго: фотографии, ноты, букеты искусственных цветов с лицом Гюго в центре, похожим на гигантский венчик, «призрачные открытки», то есть отпечатки негативов «прославленного поэта». Некто, выдававший себя за камердинера Гюго, продал 400 пар брюк, которые когда-то «облегали ноги величайшего лирического поэта всех времен»{1460}.
Вскоре Елисейские Поля заполнились пьяными. Винные магазины были открыты. Всенощное бдение сопровождалось все более веселыми и сомнительными песнями. Один полицейский рассказывал Эдмону Гонкуру, что бордели закрылись, а парижские шлюхи задрапировали свои наружные половые органы черным крепом в знак уважения. Может быть, вся сцена, мерцающая у Триумфальной арки, была огромным, бессознательным воплощением чего-то непристойного. Другие проститутки самозабвенно трудились на травянистых проспектах, окружавших саркофаг Гюго. То был последний спонтанный взрыв карнавального духа. День народного бунта; «двор чудес» из «Собора Парижской Богоматери». Католические газеты употребляли слово «вавилонский». За кустами на проспекте Виктора Гюго происходили «чудовищные надругательства», «которые полиция бессильна была подавить»{1461}. Национальный траур был отмечен новыми зачатиями.
Именно это сверхъестественное проявление эротической энергии и духа предпринимательства – а не нелепая процессия на следующий день – стало истинным апофеозом Гюго. Нечто между мифической регенерацией и нравственным позором. Огромная звонкая банальность, замечательно воплощенная в жизнь. Своего рода жирная точка, завершающее стихотворение для «Легенды веков».
На следующий день, незадолго до полудня, впервые за четырнадцать лет холмы вокруг Парижа содрогались от грохота пушек – был произведен двадцать один залп, давший сигнал к началу похорон. Процессия отправилась по Елисейским Полям к центру города, в котором, казалось, кишел огромный муравейник: свыше двух миллионов человек, что превышало обычное население Парижа.