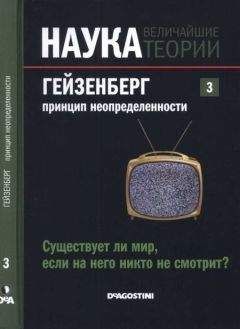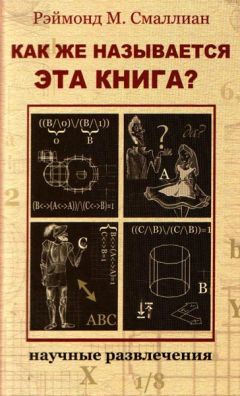Грэм Робб - Жизнь Гюго
Попытка Гюго остаться всецело «национализированным» требовала определенного распорядка действий. В апреле того же года остатки семьи переехали в две меблированные квартиры в доме номер 21 по улице Клиши{1367}. Решено было, что Гюго станет жить в одной квартире с Алисой и внуками. Жюльетте отвели комнаты в нижнем этаже; она должна была изображать экономку Гюго.
Клиши кажется странным выбором для миллионера. Это была оживленная улица, застроенная второразрядными мебельными магазинами и грязными кафе, которая примыкала к роскошным кварталам вокруг Парижской Оперы и тянулась до Монмартра, заселенного рабочими. Квартира Гюго на четвертом этаже выходила на новый парижский каток. На самом деле покупка квартиры стала отличным капиталовложением; она не была чрезмерно дорогой. Кроме того, хотя Гюго никогда не упоминает об этом, он как будто завершил круг: он оказался на месте самых первых своих сознательных воспоминаний. Его первый парижский дом, давно снесенный, находился по адресу: улица Клиши, дом номер 24. В 1804 году в доме номер 19 по той же улице от полиции прятался любовник его матери.
Спустя семьдесят лет Гюго бежал от собственной славы. Дом номер 21 стал местом рождения явления, которое ошеломило бы Софи Гюго: смеси религиозного и политического рвения, которое получило в истории наименование «гюгопоклонство».
Следующие пять лет квартира Гюго стала самым известным жилищем в Европе, зачарованным оазисом цветистых историй, анекдотов, которые сто лет назад казались главным фактором в биографии Гюго. Один биограф перечислил 142 гостей, которые регулярно являлись к Гюго, чтобы «подышать чистым воздухом»{1368}. Многие приходили, чтобы удовлетворить свое любопытство, которому важнее довольствоваться крохами, чем задаваться по-настоящему серьезными вопросами. Одному предприимчивому организатору экскурсий удалось привести в салон Гюго целую группу американских туристов (их вежливо выпроводили).
К ужину приглашали не всех, но горничная в белом переднике просила гостей подождать в прихожей, оклеенной пунцовыми обоями. Спектакль происходил в просторном, жарко натопленном салоне, освещенном газовыми рожками и люстрой и разделенном пополам большим бронзовым позолоченным слоном. Гюго принимал гостей, сидя на зеленом диванчике. Наискосок от него сидела Жюльетта; она вела беседу, отклоняла реплики, противоречившие натуре Гюго, приводя уместную цитату из сочинений мастера. Она как будто продолжала праздновать расцвет их любви: несмотря на свои шестьдесят восемь лет, по-прежнему носила шелковые платья в стиле раннего романтизма со смелыми декольте, кружевными рюшами и широкими рукавами-пагода. Вкусы Гюго применительно к женской одежде были хорошо известны; на улице Клиши можно было увидеть больше обнаженных грудей, чем где-либо еще в Париже. Дам, которые по глупости надевали перчатки, он звонко чмокал в запястье, символизируя процесс раздевания.
Гости, которые надеялись услышать поэтические перлы или смешные афоризмы, обычно оставались разочарованы, хотя Гюго всегда охотно высказывал свое мнение по любому поводу. О его оригинальной манере литературной критики лучше всех высказался Тургенев:
«Однажды я был у него дома, и мы говорили о немецкой поэзии. Виктор Гюго, который не любит, когда другие говорят в его присутствии, обрезал меня и начал набрасывать портрет Гете.
– Его лучшее произведение, – величественно произнес он, – „Валленштейн“.
– Простите, уважаемый мэтр. „Валленштейн“ написал не Гете, а Шиллер.
– Не важно. Я не читал ни Гете, ни Шиллера, но знаю их лучше, чем те, кто выучили их произведения наизусть»{1369}.
Всякий раз, как происходило что-то необычное, об этом сообщали газеты по всему миру, особенно если это сочеталось с тем, что Гюго в тот момент представлял. Однажды, когда за столом насчитали тринадцать гостей (явно не по оплошности Жюльетты), для ровного счета пригласили кучера. Перемены в обществе придали происшествию двусмысленный оттенок; в то же время история призвана была пробудить в читателях теплое чувство – великий человек снисходит до того, чтобы накормить скромного ремесленника. Правда, конец истории обычно опускают. Кучер по фамилии Моор перешагнул границы своей роли: его стошнило на ковер{1370}. Анекдот с кучером часто дополняют другой историей – об обмене любезностями с бразильским императором. Педро II в 1877 году приехал в Париж и не хотел уезжать, не повидавшись с Виктором Гюго и его внуками. Дон Педро с шести лет считал себя гюгофилом. Гюго записал в своем дневнике: «Знакомя его с Жоржем, я сказал: „Сир, позвольте представить вашему величеству своего внука“. Он обратился к Жоржу: „Мальчик мой, здесь только одно величество, и это Виктор Гюго“»{1371}.
Больше рассказывали те, кого допускали к Гюго за стол. Он пил дешевое, сильно подслащенное вино, поедал горы яиц, овощей и соусов, которые смешивал в жирном блюде под названием «олья подрида», жадно поедал омаров (в том числе панцири, которые, как он утверждал, помогают от несварения желудка, – гастрономический эквивалент битвы Жильята со спрутом), грыз куски угля и запихивал в рот целые апельсины, побуждая Жоржа и Жанну делать то же самое.
Жорж и Жанна оказались благодарными зрителями. Их дед чертил каракули на скатерти, ставил тарелки и столовые приборы на винные бутылки и оставлял под салфетками внуков маленькие картинки. Если они хорошо себя вели, находили там ангела или птичку; если нет – то чертика, осла или, в исключительных случаях, ночной горшок{1372}. Улица Клиши вернула Гюго в детство не только в географическом смысле.
Многие рассказы об улице Клиши грешат неточностями и искажениями. Три самых популярных, «замусоленных» автора воспоминаний о Гюго – Гюстав Риве, Альфред Барбу и Морис Кост – обязаны были Гюго своей работой и хорошей репутацией. Ришар Леклид был его секретарем, Жорж Гюго – его внуком, а Эдуар Локруа – его зятем. Хотя совершенно не обязательно их рассказы – вымысел, все же верить им можно выборочно.
Крайние случаи преклонения перед Гюго слащавы буквально до отвращения. Самые откровенные льстецы в воспоминаниях о нем чрезмерно усложняли синтаксис, вводя кучу придаточных предложений и устаревшую лексику, как будто желали подчеркнуть, что дело происходило не в обычном месте: «Как мне забыть мой первый визит на улицу Клиши – скромную квартиру, столь несоответствующую славе ее обитателя, которая, по подсчетам современников, не вмещалась ни в одном дворце!» (г-жа Доде){1373}. «Бег времени, как кажется, не коснулся его почтенной головы» (Барбу){1374}. «Нельзя относиться к его внешности так же, как к внешности менее значительных людей»{1375}. Некоторые из этих угодливых описаний граничили с безумием. Один поэт по имени Адольф Пеллерпо, у которого время от времени появлялось бредовое расстройство и который воображал себя Виктором Гюго, судя по всему, умер, измучившись, после того, как нечаянно разбил у Гюго китайскую вазу{1376}. Суинберн, наоборот, сохранил остроумие, позволившее ему наслаждаться своей одержимостью. Он читал Гюго еще в Итоне и так влюбился в «величайшего писателя века», что составил полную рифмованную библиографию трудов Гюго. «Хотелось бы мне каждое утро чистить сапоги Виктору Гюго, – написал он, побывав у Гюго дома, – чтобы ежедневно получать от него мимолетный взгляд, исполненный восхитительной доброты, которую он выказал, снизойдя ко мне»{1377}. Гюго в ответ признался, что не знает английского, а затем и вовсе притворился глухим.
Суинберн пал жертвой типичного извращения конца XIX века, которое можно назвать геронтофилией – нечто вроде той страсти, которую в Великобритании удовлетворяла королева Виктория. Гюго был кумиром народа, который считал своих стариков опозоренными и который все чаще стремился брать ответственность за свою судьбу на себя. Мужские добродетели в виде шовинизма и антиклерикализма шли рука об руку с культом личного влияния и религиозным благоговением.
Испытываешь едва ли не облегчение, узнав, что у Гюго часто бывали и борцы с предрассудками. Вот где впервые появляется грань между тем, что Морис Агуйон называет «народным гюгопоклонством» и «официальным гюгопоклонством»{1378}. Для большинства политиков Гюго по-прежнему был безответственным демагогом; его огромное и бессодержательное эго бросало тень сомнения на их профессию. Даже в кругах республиканцев немодно было отдавать ему дань: Гюго запятнала его необъяснимая тяга к спиритизму. Морис Кост в 1927 году так описывал среду, в которой поносили Гюго: «Скрытая враждебность большинства лидеров Третьей республики по отношению к человеку, которого они публично превозносили как одного из своих официально признанных вождей, – одно из самых сильных воспоминаний, какое я сохраняю о республиканской среде того периода. Было настолько принято высмеивать его у него за спиной, на тех же приемах, где его провозглашали знаменем, что в конце концов многие из тех, кто искренне любили его и восхищались его гением, боялись показать свои чувства и присоединялись к насмешкам»{1379}.