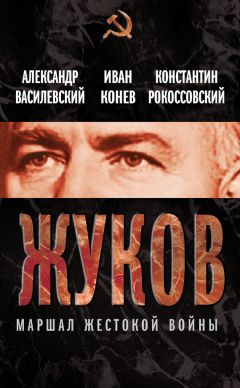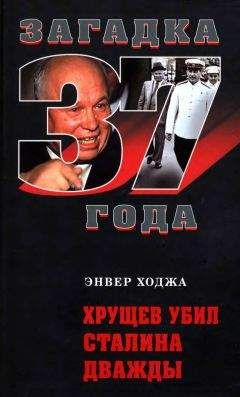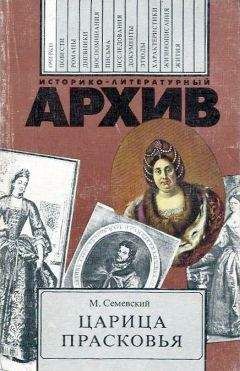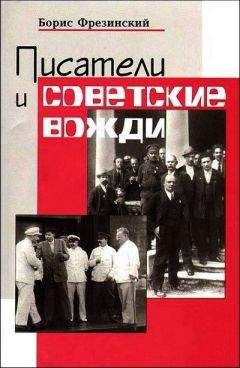Прасковья Мошенцева - Тайны Кремлевской больницы, или Как умирали вожди
Правда, ребенка пришлось обидеть. Ощупав руку, я определила, что перелом — со смещением. По моему знаку сестра заранее приготовила гипсовую лангету. Девочка не успела по-настоящему зареветь, как я уже сделала ей вытяжение и вправление костных осколков. Потом положили лангету, забинтовали руку и отправились в рентгеновский кабинет.
Снимок подтвердил, что все прошло успешно.
Надев счастливый браслет, я отправилась домой — догуливать выходной.
Яблочкина пропала!
Александра Александровна Яблочкина перешагнула девяностолетний рубеж, когда попала в нашу больницу. Все ее болезни являлись следствием столь преклонного возраста. Я же помнила ее совсем другой: на сцене Малого театра. Вот она в роли Софьи из «Горя от ума»… Но особенно хороша была Яблочкина в пьесах Островского. И еще я запомнила ее в «Любови Яровой», где актриса играла роль жены профессора Горностаева.
И вот великая актриса — в больничной палате. Как многие люди ее возраста, Яблочкина страдала бессонницей. Во время дежурства, когда в отделении было спокойно, я нередко засиживалась у ее постели. Слушала ее рассказы о прошлой жизни, всякий раз поражаясь тому, как великолепно она владела словом. Александра Александровна и поведала мне историю любви. Историю драматичную. И в чем-то даже уникальную. Описываю так, как рассказывала актриса.
Она родилась в Петербурге. Актерскому мастерству училась у знаменитой актрисы Гликерии Федотовой и своего отца. Он был актером и режиссером одновременно. И звали его тоже Александр Александрович. Ей не было и двадцати, когда она начала выступать на сцене Тифлисского русского театра. Внешность у нее была ангельская, хороша была необычайно. В этом же театре первые роли играл красавец актер — сын богатых и знатных родителей. Молодые люди полюбили друг друга и решили пожениться. Но родители возлюбленного стали прямо-таки стеной против этого брака.
— Они не хотели, чтобы сын женился на актрисе, да еще начинающей, — рассказывала Яблочкина. — Ведь это было еще в прошлом веке… В провинции актриса считалась чуть ли не женщиной легкого поведения.
Прошло время. Возлюбленный женился. Яблочкина же осталась навсегда верной своей первой любви. В ее жизни не было ни одного мужчины… Об этом даже ходили анекдоты, которые Александра Александровна с юмором рассказывала.
Воспоминания утомили актрису. Я дала ей успокоительное. А возле палаты установила на ночь индивидуальный пост. Медицинской сестре наказала строго-настрого никуда не отлучаться. Как выяснилось позже, медицинская сестра, неотлучно находившаяся около палаты, все-таки задремала, сидя на стуле. Проснулась ночью от какого-то невнятного шума или шороха. Вбежала в палату, а больной на кровати нет. Прибежала ко мне:
— Прасковья Николаевна! Яблочкина пропала!
Я поспешила в палату. Яблочкиной на кровати не было. Включила свет. И вдруг из-под кровати услышала незабываемый голос актрисы:
— Лев Николаевич! Где вы, Лев Николаевич?
Боже ты мой! Что еще за Лев Николаевич? Мы подняли актрису, снова уложили в постель. Упала она удачно, просто скатилась с кровати во сне: никаких ушибов я не обнаружила.
— Кого это вы искали там, под кроватью? — решила я пошутить. — Кого звали?
— Как кого? — вполне серьезно ответила Яблочкина. — Льва Николаевича Толстого.
Уже днем, когда актриса оправилась от падения и пришла в себя, она рассказала о своем знакомстве и встречах с великим писателем…
— Я ходила на его похороны, — рассказывала она. — Ведь когда Толстой умер, мне было уже сорок четыре года. А когда случилась революция, я прожила уже половину жизни. Считайте меня осколком империи.
Яблочкина умерла от старости. Ей было около ста лет. Она действительно была девственницей. В этом мы убедились на вскрытии.
Не мой пациент — Твардовский
Я видела Твардовского один раз, говорила с ним недолго. Но запомнила навсегда. Твардовский был для меня мифом. Еще с войны чуть ли не наизусть я знала «Теркина». А потом — его лирические стихи. Особенно любила стихотворение про перевозчика: «Перевозчик, перевозчик, старичок седой, перевези меня на ту сторону, сторону — домой» — может быть, потому, что оно вызывало в моей памяти картины детства и родной деревни.
Как сейчас помню, вызвали в приемное отделение. Я спустилась из ординаторской на первый этаж. В приемной стоял Твардовский, не узнать его было невозможно. Выглядел он неважно: грустный, бледный, погруженный в собственные мысли.
— Дежурный хирург Мошенцева Прасковья Николаевна, — представилась я как положено. — Хочу вас осмотреть.
Александр Трифонович грустно улыбнулся и тихо сказал:
— Я не ваш пациент, доктор. Вы мне ничем не поможете. Не обижайтесь, но это так.
В истории болезни прочитала ужасный диагноз: «рак с метастазами в головной мозг». Правда, явных признаков поражения мозга пока видно не было. Только затрудненность речи, землистый цвет лица, усталый вид. Но это пока…
Я все же осмотрела Твардовского и как можно спокойнее сказала:
— Действительно, в хирургическом отделении вам делать нечего, нужно лечиться в неврологическом.
Твардовский насмешливо взглянул на меня:
— А если говорить откровенно, доктор, то мне вообще в больнице делать нечего.
В том же спокойном тоне я стала убеждать Александра Трифоновича в необходимости лечения. Советовала лечиться не в нашей больнице, расположенной в городе, а в Центральной клинической, где условия много лучше: можно гулять, дышать свежим воздухом… Возможно, Твардовский прислушался к моему совету: его перевели в ЦКБ.
Я вообще придерживаюсь точки зрения, что смертельно больной человек не должен знать своего диагноза. Зачем лишать его надежды, пусть иллюзорной? Убеждена: надежда поддерживает, безнадежность ускоряет роковой исход…
Твардовский умер через несколько месяцев. Много говорили о его запоях, о пристрастии к алкоголю. Но в медицинских документах об этом недуге не было сказано ни слова.
Когда бываю на набережной Тараса Шевченко, подолгу стою у его дома, перед мемориальной доской писателя. Сокрушаюсь о несовершенстве медицины, которая не смогла продлить ему жизнь. И повторяю про себя строчки его стихов, написанные по другому поводу. Вот эти: «Я знаю, никакой моей вины… Но все же, все же, все же…»
Секрет долголетия Мариэтты Шагинян
С известной советской писательницей Мариэттой Сергеевной Шагинян я была знакома задолго до того, как ее положили в наше отделение. Маленькая, необычайно энергичная и подвижная, она была глухой. Но, видимо, будучи человеком философского склада, не делала из этого трагедии. Напротив, Шагинян всегда подшучивала над своим недугом, никогда не избегала человеческого общения: она любила изучать людей. Должно быть, сейчас мало кто знает это имя. В годы советской власти она была известна, прежде всего, как автор эпопеи «Семья Ульяновых». Казалось, о Ленине и его семье она знает все. Причем много такого, что даже и напечатать нельзя. Во всяком случае, так она рассказывала.
Мариэтта Сергеевна узнала меня сразу, лишь только я появилась на пороге палаты.
— A-а, Дева Мария? — раздумчиво произнесла она.
Видя мои протестующие жесты, добавила:
— Знаю, знаю, что вы — Прасковья. Но это дела не меняет: для меня вы — Дева Мария, исцелительница.
Я спросила, за какие это заслуги причислена к лику святых.
Шагинян напомнила, что когда-то я вылечила ее от какой-то болезни. Сделала то, что не удавалось другим врачам.
Память ее меня поражала. Даже в преклонном возрасте Мариэтта Сергеевна сохранила ясность мысли, быстроту реакции, живость характера. Как-то сказала:
— Прасковья Николаевна, знаете, почему я так долго живу? Потому, что ничего не слышу. Ни плохого, ни хорошего!
Шагинян засмеялась, а я подумала: все-таки было бы хорошо, если бы она могла слышать.
В те годы слуховые аппараты были большой проблемой. Но Кремлевской больнице было доступно то, что невозможно другим. Слуховой аппарат для Мариэтты Сергеевны удалось заказать. Я сама поехала в мастерскую, рассказала мастеру об этой удивительной женщине, о ее книгах. Он обещал все сделать исправно.
Когда слуховой аппарат, наконец, был изготовлен и доставлен в больницу, меня в отделении не было. Мариэтту Сергеевну я смогла навестить только вечером, в одиннадцатом часу. Вошла в палату. Мариэтта Сергеевна возилась с аппаратом, была не в духе и довольно резко попросила меня выйти. В полном недоумении я ушла. Хотя знала, что смена настроения случалась у нее нередко и многие считали ее вздорной старухой. Однако вскоре медсестра попросила меня зайти. Мариэтта Сергеевна казалась довольной. Слуховой аппарат был налажен. Первым делом в свойственной ей ироничной манере отругала меня за присутствие на работе в столь позднее время: